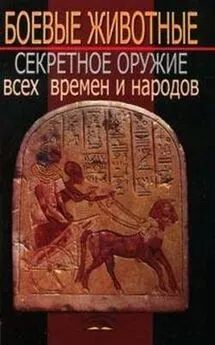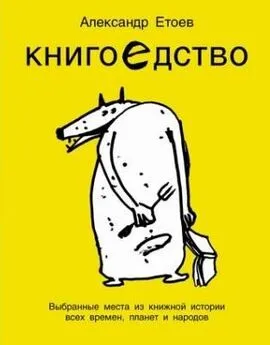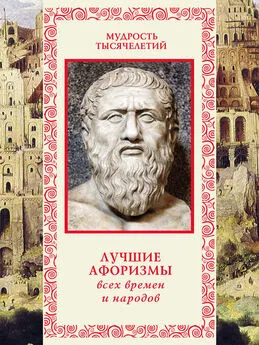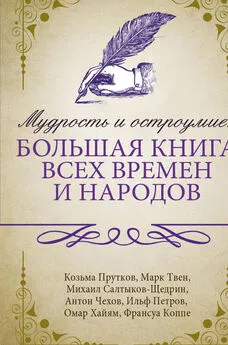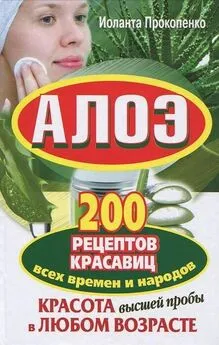Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]
- Название:История всех времен и народов через литературу [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:9978-5-17-138709-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
История всех времен и народов через литературу [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Обратимся сначала к самому названию повести. «Le coeur simple» или «Простое сердце» звучит как завуалированная библейская цитата. Речь здесь идет о «нищих Духом…», «о простых сердцем», о простоте в целом как о наивысшем проявлении христианской добродетели – смирении и преодолении гордыни. Именно простым людям и должны были открыться ворота в царствие небесное. Такую способность души своей героини и подчеркнул Флобер, когда писал, что «она плакала, когда слушала о страстях Христовых. За что они распяли его, так любившего детей, насыщавшего толпы, исцелявшего слепых и, по милосердию своему, пожелавшего родиться в бедной семье, в грязном хлеву? Посевы, жатва, орудия виноградарей – все эти обыденные события и предметы, о которых говорится в Евангелии, были ей близки, а присутствие Бога освятило их, и она (Фелисите. – Е.Ж .) еще сильнее полюбила ягнят (агнцев) и голубей как образ Святого Духа.
Даже само имя героини Felicite означает блаженство, что тоже позволяет увидеть здесь проявление общей религиозной тенденции. По мнению исследователей, Флобер имел все основания включить «Простое сердце» под одну обложку с двумя указанными повестями. Жизнь простой кухарки сродни житию святых, это тоже своего рода легенда, только перенесенная в современность. [162] Брахман С. Предисловие // Гюстав Флобер. Госпожа Бовари. Три повести. Лексикон прописных истин. М., 1990. С. 18.
По сути дела, перед нами притча о блаженной (Фелисите) праведнице. Блаженной она зовется потому, что совершенно не похожа на других людей, она способна их только удивлять особой преданностью и духовным отношением к миру, которые воспроизводятся писателем в феноменологическом ключе. В этой повести автору удалось запечатлеть важнейшее жизненное явление, к которому постоянно, особенно в XX в. возвращается литература: отчуждение человека в современном обществе, особенно когда речь заходит о человеке необыкновенного духа. В самом начале читаем: «В течение пятидесяти лет жительницы Лон-л’Эвека завидовали г-же Обен, хозяйке Фелисите.
За сто франков в год Фелисите готовила и убирала в комнатах, шила, стирала, гладила; она умела запрягать лошадь, откармливать птицу, сбивать масло и была преданна своей хозяйке, кстати сказать, довольно неприятной особе».
Прибегая к несобственно-прямой речи, Г. Флобер уже в первой фразе передает общий настрой соседских кумушек. Ими владеет только одно чувство – зависть. А Фелисите ценится только за неиссякаемое трудолюбие, неприхотливость и почти полное равнодушие к деньгам. Кумушек явно удивляет, почему именно госпоже Обен выпало такое счастье. Зависть рождает автоматически другое чувство – неприязнь по отношению к тому, кто оказался более удачлив. Фелисите же предстает перед нами как блаженная, человек, далекий от нужд пошлого меркантильного мира. В форме реалистического рассказа постепенно вырисовывается притча о праведнице, которую душевная чистота возвышает до идеальных образов, созданных народным воображением. Однако этот аспект не был замечен современниками. В основном видели проявление общей тенденции, направленной на социальное обличение, на критическое отражение жизни народа.
Так, во Франции успех «Простого сердца» оказался небывалым. Повесть вписалась в ряд литературных произведений 1860–1870-х гг., авторы которых отличались сочувственным отношением к проблемам простых людей. «Простое сердце» стала в один ряд с книгами Жорж Санд (кстати сказать, именно ей посвятил свой шедевр Г. Флобер), с «Отверженными» В. Гюго, «Жермини Ласерте» братьев Гонкуров, «Западней» Э. Золя.
Считалось также, что непритязательная, но драматичная по существу жизнь рядовой труженицы из народа как бы продолжается из проблемы, слегка очерченной в сцене награждения на сельскохозяйственной выставке старой скотницы в «Госпоже Бовари»: «На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся старушонка в тряпье… В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее безжизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и умиления. Постоянно имея дело с животными, она переняла у них немоту и спокойствие… Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение полувекового рабского труда».
И.С. Тургенев не счел возможным публикацию «Простого сердца» в России по цензурным соображениям, кроме того, как было уже сказано, сама повесть ему не понравилась, и он передал ее для перевода другому лицу. «Вторую (повесть. – Е.Ж .) перевести невозможно (да к тому же она менее удачна), – писал Тургенев Стасюлевичу. – Там одна глуповатая забитая служанка кончает тем, что сосредотачивает свою любовь на попугае, которого она смешивает с голубем, изображающим Святой Дух… Можете представить себе крик цензуры!!!»
Заметим, что Фелисите как раз и не собиралась смешивать своего Лулу с голубями, наоборот, она была уверена, что «Бог-отец не мог сделать своим посланцем голубя – ведь голуби не умеют говорить, – вернее всего, он избрал предка Лулу».
Тургенев явно не почувствовал скрытого философского контекста повести и воспринял ее как еще один пример так называемой обличительной литературы. Для русской классики понадобилось несколько десятилетий, творчество А.П. Чехова с его мощным подтекстом, чтобы увидеть в незамысловатом повествовании присутствие чего-то чудесного, сродни двум другим христианским легендам, включенным в сборник «Три повести».
Для доказательства этой мысли обратимся к свидетельству А.М. Горького. В частности, он пишет: «Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонила передо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали меня. В этом был скрыт непостижимый фокус, и – я не выдумываю – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытался найти между строк разгадку фокуса». [163]
Как становится ясно из этого вполне искреннего признания, Горький в неком чудесном свете увидел рассказ о забитой женщине. Будучи художником слова, он, пожалуй, неслучайно упоминает даже праздник Святой Троицы. Здесь явно звучит намек уже не на социальный аспект, который словно выпирает и бросается в глаза, а на то, что уже не укладывается только в рамки привычного и столь характерного для XIX в. обличительства: французская необразованная кухарка вырастает в грандиозную фигуру в сознании другого писателя, который специально обращает наше внимание на саму атмосферу христианского праздника, под влиянием которой, может быть, только и возможно было ощутить, ясно увидеть скрытый от привычного взгляда религиозный контекст всего произведения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)