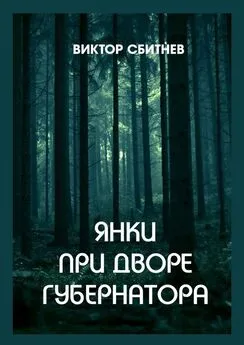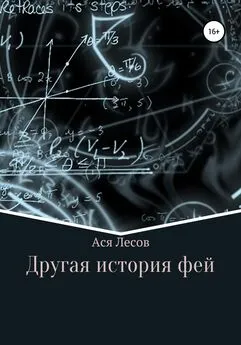Виктор Сбитнев - Совсем другая история
- Название:Совсем другая история
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сбитнев - Совсем другая история краткое содержание
Совсем другая история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Надо жить со своим народом!
Превратности российской справедливости
Когда-то давным-давно, ещё в советскую пору, я, пребывая в своей родовой деревушке на студенческих каникулах, поехал в райцентр за хлебом, сахаром и иными по тем временам дефицитными продуктами. Наполнив ими под завязку рюкзак и сумку, решил зайти в привокзальное питейное заведение – «шалман» – выпить пару пива и съесть рыбий хвост. Пиво, естественно, было жидким, а от рыбы припахивало негоже. Но тут уж поделать ничего было нельзя: в ту пору и в областной столице «шалманы» редко удивляли хорошим пивом. До пресловутой горбачёвской борьбы со змием было ещё далеко, а потому разливали в заведении и водку. Кое-кто тайно покуривал, многие, несмотря на грозное объявление «Своё не приносить и не распивать!», как раз этим и занимались: разливали под столиками магазинную и соответственно более дешёвую водку, а то и «чернила» типа «Золотой осени» (в мужичьем мире её окрестили «Золотой плесенью»). Выпив первую кружку пива, я достал из сумки кусок «Особой» колбасы и ломоть местного хлеба, более похожего на коричневый п ластилин, а то и на кое-что похуже. Надо сказать, что за полтора месяца деревенской жизни, которая проходила по большей части на сенокосе и лесозаготовках, я сильно одичал, а потому даже поселковый «шалман» невольно воспринимал, как этакое окно в цивилизацию. Мужики тут собрались самые разные: от типичных советских опоек с характерной одутловатостью лиц до вполне приличных молодых людей с инженерской внешностью. В шалмане стоял то усиливающийся, то замирающий говор, который после долгого лесного безмолвия заметно волновал и был вполне приятен. Я неторопливо уплетал свою колбаску, а этот волнообразный шум как будто убаюкивал меня. Так прошло довольно много времени, потому что я залезал в свою сумку ещё и ещё. И вдруг шум забегаловки как-то странно заколебался, словно согласно беседовавшие до этого посетители заметили нечто необычное и разом смолкли. Я поднял голову и увидел неподалёку от стойки неряшливо одетого бородатого мужика неопределённого возраста, который забирался на пустую пивную бочку. Это занятие у него явно не получалось, а потому стоявшие рядом приятели стали сначала подбадривать его, а затем и подсаживать. И вот он, едва не доставая лохматой нечесаной башкой до брезентовой крыши, воцарился над всей пьющей и закусывающей компанией. Поначалу взгляд его блуждал, но вскоре приобрёл оттенки одного сплошного, взыс кующего упрёка. Люди постарше, надеюсь, помнят то дуалистическое брежневское время, внешне очень спокойное, медленно текущее и даже вязкое, а внутренне напротив – колкое, шершавое, всё в протестных воронках и политических анекдотах. И вот, постояв так в очевидной попытке привлечь к себе всеобщее внимание и, видимо, настроить собравшихся на нужную волну, мужик стал читать … Лермонтова… «Смерть поэта». Я, студент филфака, скажу без преувеличения, натурально обалдел. Зачем и кому он это читал? Ну, конечно же, не из любви к Пушкину или литературе вообще. Это стало понятно, когда он дошёл до последних, обличительных строк: «Вы, жадною толпой стоящие у трона», «Пред вами суд и правда – всё молчи!» и так далее, вплоть до «И всей своей вы чёрной кровью не смоете поэта праведную кровь!». Понимаете, и я, и все собравшиеся в шалмане простые поволжские мужики почувствовали вдруг, что стихотворение написано вовсе не полтора века назад, а только что, вот здесь, где-то едва ли не под заставленным пивными кружками столом. Ведь з а пивом, а тем более, за водкой о чём обычно говорили наши русские работяги? Конечно же, о справедливости: о работе, где начальник ни за что – ни про что урезает премию, о родной улице, где сосед – куркуль продаёт по ночам втридорога палёную водку, о своей собственной семье, где вконец распоясалась безбашенная тёща, но и о секретаре райкома, который, занимаясь пустой трепотнёй, за два года получил уже вторую квартиру. Что тут началось, когда он закончил! Сказать, что гул народного негодования – это значит, не сказать ничего. Буфетчица тут же выставила табличку «Технический перерыв», а я всерьёз испугался, что пивное общество сейчас же вооружится вилами и отправится к райкому партии свергать действующий режим .
Я вспомнил сейчас об этом с одной единственной целью: убедить читателя в том, что искони, с седых времён создания «Русской правды» и Новгородского вече основными духовными скрепами составляющих всего русского мира были и остаются обострённые чувства низового народного патриотизма и укоренённой, можно даже сказать – этнической справедливости. В сущности, всё остальное – и законопослушность, и служение родине, и благополучие частной жизни – к ней, справедливости, прилагаются. И даже вера наша православная, в отличие, скажем, от католической, во всём ставила и ставит это чувство, это душевное состояние во главу угла: и во взаимоотношениях мужчины и женщины, и в воспитании детей, и в артельном труде, и в сомкнутом дружинном строю. Почему? Полагаю, потому, что веками сначала на Руси, а затем в России и Советском Союзе между народом и властью существовали не просто противоречия, а вечная непримиримая конфронтация, нередко переходящая в войну на истребление. И, разумеется, инициатором таких взаимоотношений всегда была власть, которая, в сущности, никогда не любила, не берегла свой народ. «Живая власть для черни ненавистна!» – как всегда точно сформулировал в «Борисе Годунове» русскую общественную константу всё тот же Пушкин. А в 1978 году в интервью «Русской мысли» Иосиф Бродский, так сказать, объяснил природу этой ненависти: «Что происходит в России? Государство рассматривает своего гражданина либо как своего раба, либо как своего врага. Если человек не попадает ни под одну из этих категорий, Государство всё-таки предпочитает рассматривать его как своего врага со всеми вытекающими последствиями».
Я не стану здесь приводить некие исторические стадии этой «народной ненависти», ибо они аксиоматичны и скрупулёзно исследованы целым рядом научных монографий и даже популярных романов. Замечу лишь, что с приходом большевиков война со своим народом стала для власти делом поистине будничным: красный террор, подавление крестьянских восстаний и так называемых контрреволюционных мятежей, изгнание и массовое уничтожение интеллигенции и духовенства, военный коммунизм, коллективизация и индустриализация… с параллельно растущей системой лагерей – от Соловков до Гулага. Всех, кто даже не сопротивлялся, а просто пытался жить самостоятельно, по совести, уносили многочисленные «воронки», а затем столыпинские вагоны – в гибельные дали необъятного северо-востока самого крупного и совершенно не приспособленного для жизни континента. Сегодня всё чаще обращаются к трагическому опыту финской войны, которую Александр Твардовский осторожно назвал «незнаменитой». На ней замёрзали целыми полками! Соотношение погибших в боях к погибшим от морозов было примерно 1 к 5. Но разве генералы РККА не знали про финские морозы? Знали! Но почему тогда не экипировали брошенные в промороженные приполярные леса полки в тулупы и валенки? Иначе мы сегодня смотрим и на многое из того, что произошло в годы Великой Отечественной. В моём родном селе стоит высокая стела. На ней более двухсот фамилий погибших на фронте сельчан, в основном молодых работящих мужиков. Сегодня некогда красивое приходское село усохло до размеров хилой деревеньки, выселка, на улицах которого такую огромную толпу мужиков просто невозможно представить. И погибли то они по большей части не в Сталинграде и не под Курском. Есть в Калининской области такой небольшой городок Ржев, под которым немцы остановили в начале сорок второго года наши наступающие из-под Москвы войска. И держали их там аж до сорок третьего, до той поры, пока, в связи с событиями под Сталинградом, они ни ушли оттуда сами. Так вот, согласно последним данным, под этим городком районного масштаба легло порядка двух миллионов(!) советских солдат и офицеров. Туда – единственный раз за всю войну! – выезжал даже сам товарищ Сталин. Всё тот же Александр Твардовский, которому многое разрешалось, написал знаменитое «Я убит подо Ржевом», а Михаил Ножкин сочинил песню «Три слоя»: тремя слоями вокруг городка и его предместий лежали наши убитые бойцы. Военное командование, власть бросали их в лоб на самые скорострельные в мире немецкие пулемёты, пытаясь, прежде всего, обезопасить явно наделавший в штаны руководящий аппарат ЦК (Сталин несколько раз с боязливой озабоченностью спрашивал Жукова: а удержим ли мы Москву?). Или, к примеру, празднуя очередную годовщину победы под Москвой в конце 1941 года, государственные СМИ с гордостью напоминают россиянам, что под стенами столицы немцы потеряли полмиллиона убитыми. Но мало кто знает, что в Мясном Бору, неподалёку от Новгорода, полегло примерно столько же нашего, одетого в серые шинели народа. И если немцы хотя бы рвались к Москве, пытаясь взять её любой ценой, то наши мужики просто сгинули в холодных болотах… по мановению всё той же безжалостной вероломной власти. Я знаю о чём пишу, ибо работал в Мясном Бору учителем и собирал в местных лесах останки павших и их солдатские медальоны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
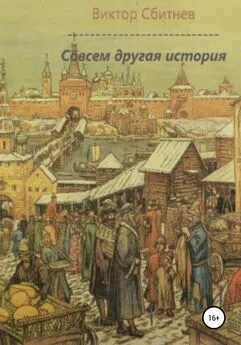


![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)