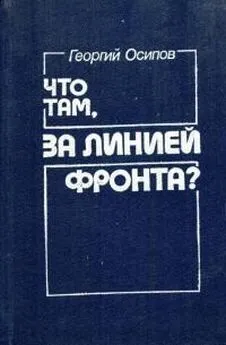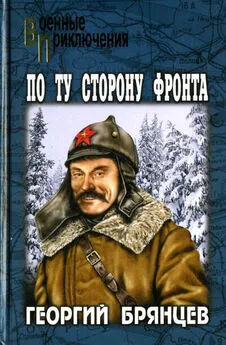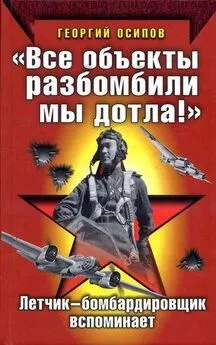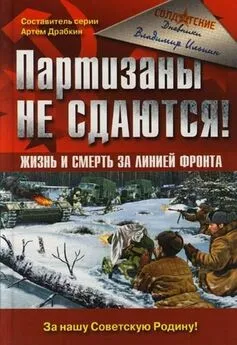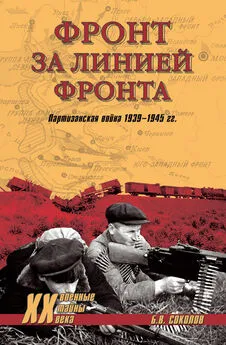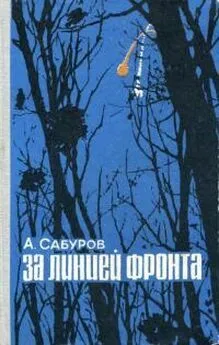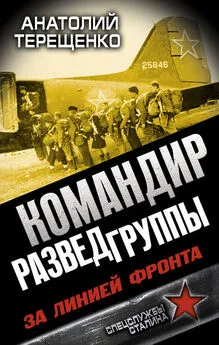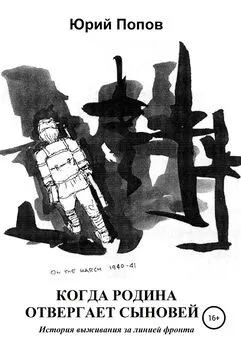Георгий Осипов - Что там, за линией фронта?
- Название:Что там, за линией фронта?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Осипов - Что там, за линией фронта? краткое содержание
Что там, за линией фронта? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Наступил сентябрь. Вновь шли ночами, питаясь ягодами, зернами нескошенной ржи, остатками невыкопанной картошки. Холод и голод загнали их в небольшую деревушку близ станции Брасово. Но в первой же крайней избе напоролись на полицейскую засаду. Летчиков схватили и доставили в комаричскую тюрьму. Там их, как и других военнопленных, то сладкими посулами, то угрозами пытались склонить к переходу на службу в поредевшие в боях полицейские батальоны.
Как-то их вызвал из камеры высокий плотный военный со знаками различия офицера бригады РОНА. «Это конец», — решили они. Однако офицер разговаривал спокойно, обдуманно.
— Вот что, братья славяне, — начал он, — мне доложили, что вы отказываетесь идти на службу к Каминскому, не дорожите жизнью, не признаете нового порядка. Даю срок на раздумье. А пока пойдете чернорабочими в окружную больницу. Есть наряд на рабочую силу от главного врача. Скажите ему, надоела, мол, казенная баланда, хотим зарабатывать хлеб своими руками, а тюрьма от нас не уйдет.
«Провокация, иезуитская выходка карателя!» — пронеслось в голове пленных. Однако ироничная манера речи, настороженный взгляд и весь облик незнакомца внушали какую-то еще не совсем осознанную надежду.
— Какие же из вас работнички, если едва на ладан дышите, — сказал главный врач, пристально всматриваясь в лица незнакомцев. — Подлечим сперва в больнице, а там поступите в распоряжение нашего завхоза Ананьева. Он определит в кочегарку, котельную, на заготовку и рубку дров. Потом видно будет, — добавил он неопределенно.
Так Старостин, Вишняков и другие военнопленные оказались под началом Павла Гавриловича Незымаева. Уже много позже они узнают, что Незымаев, Ананьев (Енюков) и освободивший их из тюрьмы «каратель» Фандющенков — коммунисты, члены подпольного центра в Комаричах.
Однажды в больнице появился незнакомый крестьянский парень. Это был, как впоследствии сказали штурману, маршрутный связной из села Бочарова.
— Имею боевое задание, — сказал он Старостину, — немедленно доставить тебя в лес. Сначала поедем на санях в село Бочарово. Там зайдешь в указанную мною избу. Пароль! «Нельзя ли у вас разжиться самогоном». Отзыв: «Самогон не варим, не из чего». Изба, куда был препровожден штурман, принадлежала семье, связанной с партизанами. Через некоторое время в избе появился подросток, хозяйский сын. Он внимательно оглядел незнакомца, спросил его имя и удалился. Потом в дом вошел партизанский разведчик Андрей Шавыкин, и они обменялись паролем и отзывом. После этого штурмана и еще двух человек сопроводили в отряд имени Чкалова. Виктор Старостин сразу же включился в партизанскую разведгруппу, участвовал в рейдах, захвате вражеских обозов, «рельсовой войне», проявил мужество и стойкость.
«…Тем, что я уцелел в минувшей войне и пишу вам эти строки, я обязан комаричскому подполью и русскому доктору Незымаеву. В моей нехитрой биографии отражена судьба моего поколения, которое, преодолевая трудности и невзгоды, строило новую жизнь, а когда над страной нависла смертельная угроза, взялось за оружие… Детство мое было безрадостным. Отца не помню: он умер от тифа, когда мне было два года. Мать, чтобы прокормить троих детей, батрачила у богатых крестьян. Однако нужда заставила ее отдать двух старших сыновей в работники родственникам и вторично выйти замуж. От второго брака у нее родились две дочери и сын. Мне удалось закончить Елабужское педагогическое училище и поступить учителем физики и математики в семилетнюю школу. Получить высшее образование не было возможности, — надо было работать, чтобы помочь сводным сестрам и младшему брату встать на ноги. Вскоре райком комсомола выдвинул меня директором сельской школы. Время бежало, наступил предвоенный 1940 год — год моего призыва в Красную Армию.
После окончания танкового училища все курсанты рвались на фронт. Наконец настал и мой час: Весной 1942 года я был направлен на Юго-Западный фронт командиром роты 102-й танковой бригады 40-й армии. Ожесточенные оборонительные бои не затихали сутками. Прикрывая отход штаба бригады, три моих танка «Т-70» были сожжены. Оставалась одна «тридцатьчетверка», которая ринулась на вражью колонну и дралась до тех пор, пока не был убит командир танка и тяжело ранен башенный стрелок. Разбитая прямой наводкой машина замерла на большаке у станции Щигры. Я и механик-водитель были контужены, но все же выпрыгнули из люка и, неся на себе истекавшего кровью башенного стрелка, укрылись в небольшой роще. Там уже собралась группа бойцов из других частей.
Мы оказались в полном окружении. Решено было мелкими группами пробиваться к линии фронта. Со мной были лейтенанты-танкисты Михаил Тиманьков и Михаил Богданов. Днем прятались в оврагах и балках, ночью шли, обходя населенные пункты. Мучали голод и жажда. Были моменты, когда, не видя выхода, сверлила мысль взорвать себя, чтобы не стать пленником фашистов. «Нет, — внушал я себе, сжимая в ладони гранату, — это крайняя мера, если уж погибать, то в бою. Вспомни Павла Корчагина, борись за жизнь до последнего дыхания! Помни, ты не один, за тобой бойцы, ждущие командирского слова. Ты на своей земле. Пусть на ней издыхают захватчики…»
Потеряв счет времени, мы, три лейтенанта, уже подходили к Дону. По рассказам местных жителей за рекой южнее Воронежа сражалась Красная Армия. Плутая ночью по незнакомым дорогам и не доходя 5—6 километров до фронта, были схвачены полевыми жандармами и заточены в какую-то сельскую церковь, превращенную в тюрьму. С колонной военнопленных под конвоем нас отправили в Курск, в лагерь, где люди подвергались неслыханным издевательствам. Узники умирали от пыток и болезней, слабых добивали прикладами и расстреливали.
Однажды, подслушав разговор двух охранников, мы, несколько командиров, узнали, что молодых и здоровых военнопленных готовят к отправке на шахты и рудники в Германию. На станции, куда нас привели, стоял длинный эшелон из товарных вагонов. Людей загоняли туда, как скот. Двери вагонов запирались снаружи задвижками и закреплялись болтами. Небольшие оконные люки были затянуты колючей проволокой. Мы понимали, что единственный путь к побегу и спасению именно сейчас, в пути. Когда состав шел по лесистой местности, мы, четверо лейтенантов, сорвали раму с проволокой и ринулись через оконный проем.
Свобода! В эти минуты наше состояние мог понять лишь тот, кто сам пережил ужасы фашистской неволи. Что делать? Куда идти? Вновь решили днем укрываться в кустарниках и нескошенной ржи, а ночью двигаться на север, ориентируясь по звездам. Набрели на крестьян, косивших сено. Они накормили нас и указали дорогу на хутор, где, по их предположению, базировался небольшой отряд курских партизан. Но куряне не приняли нас — у них самих не хватало оружия и, указав нам ориентиры, посоветовали идти в Брянские леса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: