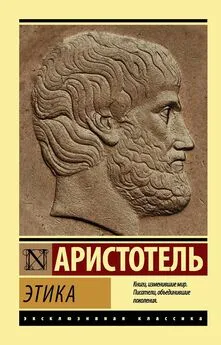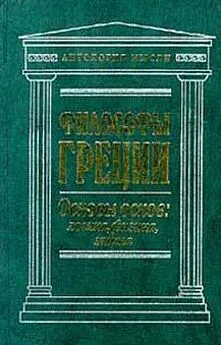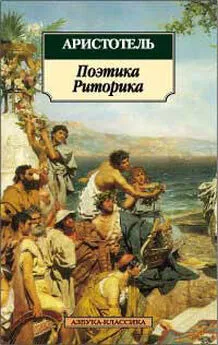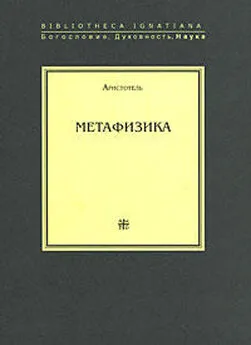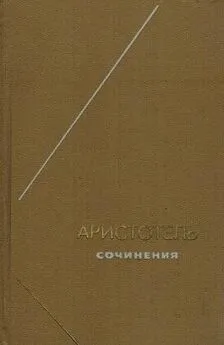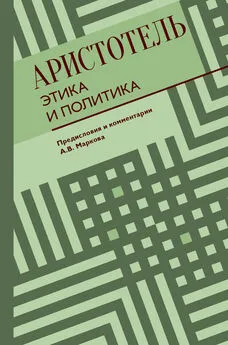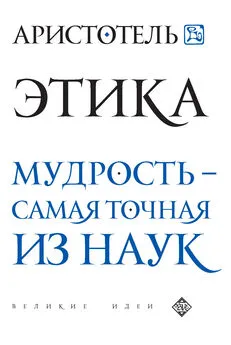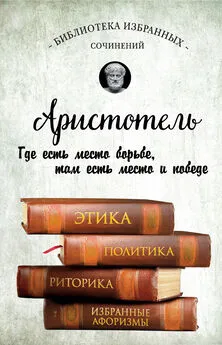Аристотель - Этика
- Название:Этика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-17-120999-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аристотель - Этика краткое содержание
Что есть свобода воли и кто отвечает за судьбу и благополучие человека?
Об этом рассуждает сторонник разумного поведения и умеренности во всем, великий философ Аристотель.
До нас дошли три произведения, посвященные этике: «Евдемова этика», «Никомахова этика» и «Большая этика».
Вопрос о принадлежности этих сочинений Аристотелю все еще является предметом дискуссий.
Автором «Евдемовой этики» скорее всего был Евдем Родосский, ученик Аристотеля, возможно, переработавший произведение своего учителя.
«Большая этика», которая на самом деле лишь небольшой трактат, кратко излагающий этические взгляды Аристотеля, написана перипатетиком – неизвестным учеником философа.
И только о «Никомаховой этике» можно с уверенностью говорить, что ее автором был сам великий мыслитель.
Последние два произведения и включены в предлагаемый сборник, причем «Никомахова этика» публикуется в переводе Э. Радлова, не издававшемся ни в СССР, ни в современной России.
Этика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
§ 10. [Возвращаемся к вопросу], который нас затруднял уже ранее: следует ли считать владеющим собой того, который держится какого угодно решения и какого угодно намерения, или лишь того, [кто придерживается] правильного, а невоздержанным – того, кто не придерживается никакого намерения и решения, или лишь того, кто не придерживается лишь ложного решения и намерения; или же придерживается какого угодно намерения лишь случайно, а безотносительно говоря, один придерживается правильного решения и верного намерения, а другой [невоздержанный] не придерживается, ибо если кто-либо избирает и стремится к известной цели ради другой, то он стремится и избирает первую саму по себе, а вторую лишь относительно; то, что существует само по себе, мы называем безусловным, так что [относительно] возможно придерживаться или отказываться от какого угодно убеждения, но безотносительно воздержан лишь тот, кто придерживается правильного убеждения; бывают люди, которые придерживаются мнений; их называют упрямыми, как например, людей, которых трудно разубедить или нельзя заставить изменить мнение. Эти настолько же похожи на воздержанного, насколько расточительный похож на щедрого и безумно отважный на храброго, но во многом они различны; только воздержанного страсть и пожелания не могут заставить отказаться от убеждения, хотя, при случае, воздержанного легко убедить, другого же, упрямого, не разубедишь разумными доводами, хотя многие из них доступны страстям и управляются наслаждениями. Ведь упрямы те невежественные и грубые люди, которые любят собственное мнение, а любят они собственное мнение вследствие наслаждения и страдания; их радует победа, если их не переубедят, и они печалятся, если их мнение, высказанное как закон, окажется бессильным, так что они более походят на невоздержанных, чем на воздержанных; бывают люди, которые отступают от своих убеждений, и это не в силу невоздержанности: как например, Неоптолем в Софокловом «Филоктете», хотя он отступает не ради наслаждения, а ради прекрасного: ему казалось прекрасным быть правдивым, и только Одиссей склонил его ко лжи, так что не всякий человек, делающий что-либо ради наслаждения, в силу этого необуздан, дурен и невоздержан, а лишь тот, кто поступает так ради позорного наслаждения.
§ 11. Встречается и такой человек, который менее, чем следует, наслаждается телесно, и в силу того не придерживается разума; воздержанный занимает середину между таким и невоздержанным, ибо невоздержанный отступает от разума, потому что слишком много [наслаждается телесно], а этот – потому что слишком мало, воздержанный же придерживается разума и не сбивается ни на то, ни на другое. Подобно тому, как воздержанность есть хорошее приобретенное свойство, так остальные два противоположных дурны, чем они и оказываются. Но так как одно из них проявляется у немногих людей, и притом редко, то подобно тому, как благоразумная умеренность кажется противоположной необузданности, так и воздержанность – невоздержанности. Так как многое говорится по сходству, то стали говорить и о воздержанности благоразумного человека: ибо как благоразумный, так и воздержанный человек в состоянии воздержаться от действий противоразумных, имеющих источником чувственные наслаждения; однако первый вовсе не имеет дурных страстей, а второй имеет их; и первый вовсе не в состоянии наслаждаться ими, второй же, хотя и мог бы, но сдерживает их. Подобным же образом невоздержанный и необузданный, при всем различии, преследуют чувственные наслаждения, но второй делает это с сознанием, что так следует поступать, первый же этого не думает. Одновременно человек не может быть умным и невоздержанным, ибо показано, что умный человек в то же время и нравственный; далее ум заключается не только в знании, но и в yмении прилагать знание на деле; невоздержанный этого умения не имеет [ού πραϰτιϰος]. Но ничто не мешает ловкому быть невоздержанным, и в силу этого-то некоторые люди, будучи умными, иногда в то же время кажутся невоздержанными, ибо ловкость отличается от ума указанным в предшествующих рассуждениях образом, но по родовому понятию они близки и отличаются лишь по намерению [действующего лица]. [Невоздержанный поступает] не как знающий и размышляющий человек, а как сонный или опьяневший, и потому-то, хотя он действует произвольно (ибо ведь он в известном отношении знает, что делает и ради чего), но он не порочен, ибо намерение его хорошо; он только наполовину порочен. Он также и не несправедлив: ибо зло не в его желаниях (έπίβουλος); невоздержанные частью не в состоянии держаться того, чего они желают, частью же они меланхолики и значит, вовсе не способны к разумной воле. Похож невоздержанный на государство, которое постановляет все, что следует, и имеет прекрасные законы, но не пользуется ими, подобно тому, как насмехался Анаксандрид: [18] Аристотель ссылается на Анаксандрида еще и в Риторике III кн., глава 10–12.
Пожелало государство, которое нисколько о законах
не заботится.
А порочный человек похож на государство, пользующееся законами, но дурными. Невоздержанностью и воздержанностью обозначается большая степень того приобретенного свойства, чем та, которая встречается у большинства людей. Второй более придерживается разума, а первый – менее, чем на то способно большинство людей. Из различных видов невоздержанности более излечим тот, которым одержимы меланхолики, чем тот, в котором при всем желании люди не придерживаются принятых решений, и легче излечимы невоздержанные по привычке, чем невоздержанные от природы, ибо легче изменить привычку, чем природу; привычка только потому и становится силой, что принимает облик природы, как это высказывает и Эвен: «Я говорю, о мой друг, что привычка есть не что иное, как продолжительное упражнение. И в конце концов она становится в людях природой». Итак, теперь сказано, что такое воздержанность и невоздержанность, и что твердость и изнеженность, и как они друг к другу относятся. [19] На этого автора, довольно часто упоминаемого Платоном, Аристотель ссылается и в Метафизике V, 5, где приведен стих Эвена: «Все необходимое всегда тягостно».
§ 12. Но философу-политику необходимо рассмотреть наслаждение и страдание, ибо ведь он создает цель, по отношению к которой одно мы называем безусловным благом, а другое – злом. Сверх того, такое рассмотрение есть вещь необходимая, ибо мы этическую добродетель поставили в связь с наслаждением и страданием; к тому же большинство утверждает, что блаженство связано с наслаждением, почему и название блаженного (μαϰαριος) произведено от слова «радоваться» (χαίρειν). Некоторым кажется, что ни одно наслаждение не есть благо, ни безусловное, ни относительное, ибо благо и наслаждение не одно и то же. Другим, напротив, кажется, что некоторые наслаждения суть блага, но что большинство их дурно. Наконец, третьим кажется, что все наслаждения суть блага. Однако не может быть, чтобы наслаждение было высшим благом. [В пользу] мнения, что наслаждение не есть благо, говорит то, что всякое наслаждение принадлежит развитию чувственной природы, а развитие не имеет никакого родства с конечными целями, как например, постройка дома никоим образом не есть дом. Сверх того, благоразумный избегает наслаждений, а рассудительный стремится к отсутствию страданий, а не к наслаждению. Далее, наслаждения служат помехой рассудку, и это тем сильнее, чем они сильнее, например, наслаждения любви, ибо никто не способен думать о чем-либо в припадке любви. Далее, в наслажден [20] Это мнение цинической школы.
[21] Это мнение Платона.
ии нет искусства, хотя всякое благо есть дело искусства; наконец, дети и животные стремятся к наслаждению. В пользу мнения, что не все наслаждения хороши, говорят постыдные, всеми порицаемые и даже вредные наслаждения, ибо некоторые из них влекут за собой болезни; наконец [в пользу мнения], что наслаждение не есть высшее благо, приводит, что оно не есть конечная цель, а развитие.
Интервал:
Закладка: