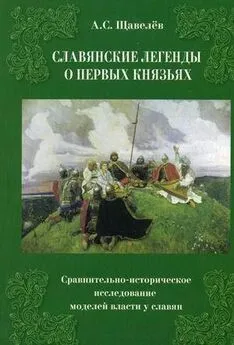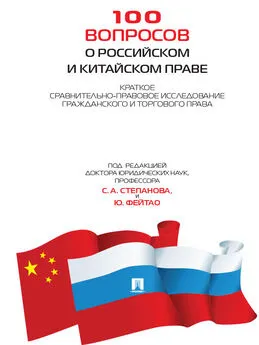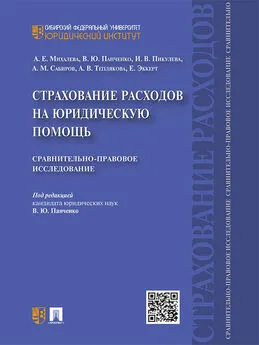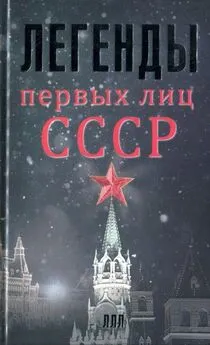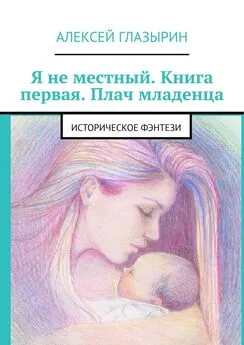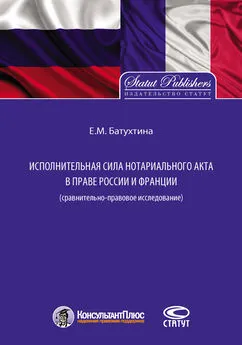Алексей Щавелев - Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян
- Название:Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Северный паломник
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-94431-228-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Щавелев - Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян краткое содержание
В монографии исследуются генезис и структура сюжетов и мотивов древнейшей славянской мифопоэтической традиции. Особое внимание уделяется реконструкции моделей архаичной власти, отразившейся в этих преданиях, а также позднейшим трансформациям устных сказаний в процессе их включения в раннеисторические хроникальные и летописные памятники. Книга адресована историкам, филологам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами исторической поэтики и прошлым славянских народов.
Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
84. В первом варианте этой работы (Щавелёв, 2005) при выявлении черт «модели власти славян», отраженной в легендах западного и восточного ареалов, предания о становлении власти у южных славян (в силу их разрозненности) не учитывались. Но затем они послужили верификационным материалом для доказательства универсальности этой модели в пределах всего славянского мира от Прибалтики до Балкан.
85. Москов, 1988; Горина, 1998. С. 26-27.
86. Динеков, 1981.
87. Литаврин, 1985; Литаврин, 1999/1. С. 192-228, 237-348.
88. Турилов, 1995. С. 2-39.
89. Иванов Й„ 1970. С. 273-287, 398-399.
90. Пешканова, 1987; Беновска-Събкова, 1996. С. 80-89.
91. Ангелов, 1980.
92. Иванов СЛ., 1991. С. 131-136; Dimitrov, 1993. Р. 97-119.
93. Мной использован русский перевод текста, опубликованный на сайте vostlit.ru. Текст перевода я сверял по изданию: Шишиħ, 1928.
94. Гаврюшина, 1996. С. 344-345.
95. Банашевиħ, 1971. С. 13-47.
96. Алексеев, 2006/2. С. 10; Наумов, 1985/1. С. 203, 212.
97. Solovjev, 1939. S. 85.
98. Фома Сплитский, 1997. С. 35-36, 159-162, 240-242.
99. Константин Багрянородный, 1989.
100. Леви-Стросс, 2000. С. 124.
101. Леви-Стросс, 1983. С. 8-32, 305-339; Эванс-Причард, 2003. С. 273-291; Рэдклиф-Браун, 2001. С. 208-236.
102. Пропп, 1996.
103. Иванов, 2000. С. 86-95; Байбурин, 1995.
104. Ср.: Кафанья, 1997. С. 91-114.
105. Исследователям нередко удается уловить нюансы разницы между этими понятиями: «Предание отличается от легенды тем, что несет "установку на достоверность"... в противовес преданию легенда (хотя и не исключает "установки на достоверность") содержит нечто необыкновенное» (Котляр, 1986. С. 11).
106. См.: Гиренко, 1991.
107. Крадин, 1995. С. 11-63.
108. Берёзкин, 1995. С. 62-78; Карнейро, 2000. С. 84-94.
109. Мельникова, 1995/1. С. 16-32; Котляр, 1998. С. 9-69; Шинаков, 2000/1. С. 303-347.
110. Литаврин, 1984. С. 193-203.
111. Коротаев, Оболонков, 1990. С. 3-52; Попов, 2000. С. 17-24; Мердок, 2003. С. 67-105, 405-436.
112. Историографические обзоры определений понятия «власть» см.: Баландье, 2001. С. 31-55, 82-99; Крадин, 2001. С. 67-116; Куббель, 1988. С. 23-41.
113. Луман, 2001. С. 11-33; Кожев, 2007.
114. Block, 1963. Р. 16-40; Новосельцев, Пашуто, Черепнин, 1972; Кобищанов, 1992. С. 5-17.
115. Такое понимание феодализма см. в работах: Баландье, 2001. С. 96-99; Блок, 2003. С. 429-440; Кареев, 1910. Ср.: Stenton, 1961.
Глава I.
История изучения устных источников славянского летописания и хронистики раннего Средневековья
О! разрешите мне
Старую трудную загадку!
Уж много мудрило над ней голов —
Головы в колпаках с иероглифами,
Головы в чалмах и черных беретах,
Головы в париках и всякие другие...
Генрих ГейнеСпециальное рассмотрение истории изучения устных источников первых славянских летописей и хроник необходимо в связи со спецификой историографической ситуации, сложившейся в этой сфере. С одной стороны, вопрос о заимствовании сведений из устной традиции для создания письменных историй и проблема возможных фольклорных источников известий начальных частей летописания и хронистики неизбежно возникали в большинстве исследований ранней истории славянских государств (наиболее подробно эти вопросы рассматривались на русском, польском и чешском материале; меньше внимания уделялось Болгарии, Хорватии и Сербии) и при филологическом анализе славянских литературных памятников. С другой стороны, в большинстве работ связь летописного или хроникального известия с устным преданием, «эпосом», выяснялась исключительно в связи с определением меры исторической достоверности текста, а в текстологических исследованиях — как показатель невозможности восстановить предшествующий этап письменной традиции.
1. История изучения устных источников русских летописей
Становление исторической критики источников в России, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и Хорватии приходится на конец XVIII — начало XIX в. В этот период ученые труды начали освобождаться от явно легендарных, по сути мифологических представлений, переполнявших большинство сочинений XVI-XVII вв.[1]
Среди первых ранненаучных исследований выделяется своей масштабностью труд В.Н. Татищева. Его «История Российская» обычно рассматривается как условный рубеж между преднаучным и научным периодами развития исторической науки. Это сочинение наиболее типично для этапа становления исторической критики[2].
Основным принципом работы В.Н. Татищева была компиляция максимально широкого круга источников. В его труде были объединены самые разные летописные и литературные памятники XII-XVII вв.; кроме того, эти известия подвергались систематической обработке (и, вероятнее всего, произвольным дополнениям) со стороны автора[3].
Что касается устных источников летописания, то В.Н. Татищев четко придерживался позиции, отождествляющей письменный текст с достоверными известиями, а устные сообщения «молвы» — с недостоверными. По его мнению, первый летописец Нестор писал летопись «не со слов, а из книг»[4]. Историк допускал, что древнейшие предания (в частности, о Кие) могут быть вымыслом летописца «для закрытия сведений древности»[5]. Татищев предполагал, что имена Кия и его братьев «вымышлены от названия урочищ»[6]. Одновременно он предложил «научную» сарматскую этимологию имени Кия[7] и в поздних версиях своего труда окончательно её придерживался[8]. Большинство остальных сообщений Начальной летописи (известие о призвании варягов, известия об Олеге и Игоре, о мести княгини Ольги) Татищев признавал вполне достоверными и восходящими к более древним письменным источникам, которые он искал или изобретал[9].
«История Российская» В.Н. Татищева открывает, таким образом, традицию трактовки проблемы фольклорного источника летописного известия исключительно с точки зрения критериев достоверности и «историчности». Аналогичный подход сохраняется в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина[10]. Практически все известия «летописи Нестора» воспринимались Карамзиным как «предания». Скепсис по отнощению к первым известиям (в частности о Кие и его братьях) у «последнего летописца» выражен гораздо сильнее: «Нестор в повествовании своем основывается единственно на устных сказаниях... мог ли он ручаться за истину предания, всегда обманчивого, всегда неверного в подробностях...»[11].
Карамзин разделял мысль Татищева о производности имен Кия и его братьев от названий местных топонимов, но одновременно пытался выявить исторически достоверные детали этого повествования — занятия славян охотой, их походы на Царьград, обитание славян на Дунае[12].
Карамзин предпринял попытку отделить поздние предания от более ранних. В частности, сказание о хазарской дани в виде мечей он отнёс ко времени победы над хазарами при Святославе Игоревиче[13].
Особое внимание Карамзин уделил появлению первых «хронологических показаний» летописи[14]. В его работе предложен подробный исторический разбор сказания о призвании варягов, итоги которого позволили сделать вывод о существовании устного предания, лежащего в основе летописного известия, цельности предания, отсутствии домыслов и позднейших интерполяций в летописном тексте[15]. Историк сомневался только в достоверности хронологии событий, предложенной летописцем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: