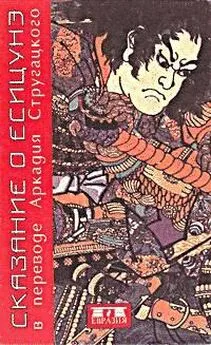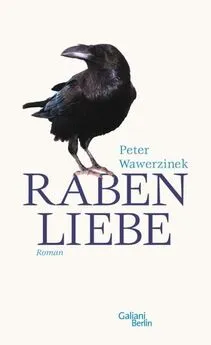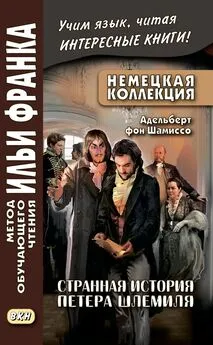Peter Kreeft - Unknown
- Название:Unknown
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Peter Kreeft - Unknown краткое содержание
Unknown - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юм унаследовал от своего предшественника Локка фатальное предположение, что непосредственный объект человеческого знания представляет собой скорее наши собственные мысли, чем объективную реальность. Локк наивно предположил, наши мысли соответствуют объективной реальности – подобно фотографии – и мы можем это знать. Но сложно понять, как мы можем быть уверены, что фотография точно соответствует реальному объекту, если единственное, что мы можем знать – это фотографии, а не реальные объекты. Юм же из предположения Локка вывел скептицизм.
То, что Юм называл «отношениями между идеями» (“relations of ideas”), Кант позже назвал «аналитическими высказываниями», а современные логики называют это «тавтологией»: высказываниями, которые истинны по определению, истинны потому, что их предикат (сказуемое) лишь повторяет (целиком или частично) субъект (подлежащее). Например, «Деревья – это деревья», «Единороги – это не не-единороги», «Неженатые мужчины – мужчины».
То, что Юм называл «фактами» («matter of facts»), Кант называл «синтетическим высказыванием», где утверждение добавляет новую информацию о подлежащем (например, «Нет ни одного англичанина ростом в 5 метров» или «Некоторые деревья никогда не сбрасывают листья»). И эти «факты», согласно Юму, могут быть познаны только через наблюдение посредством ощущений. Потому они всегда скорее относятся к частным случаям (например, «Эти два человека – лысые»), чем к универсальным обобщениям (например, «Все люди смертны»), так как мы не можем ощутить всеобщее (универсалии; например, «все люди»), а только что-то конкретное («эти два человека»).
Здравый смысл говорит, что мы можем быть уверены насчет всеобщих истин, например, что все люди смертны, а потому и Сократ смертен, раз он человек. Но по Юму выходит, что мы не можем быть уверены во всеобщих истинах, подобных «все люди смертны», так как единственный путь осознания их – это обобщение конкретных наблюдений (этот человек смертен, и этот человек смертен, и т.д.), но мы не можем наблюдать всех людей, потому наше обобщение носит лишь вероятностный характер. Юм утверждал, что конкретные факты, выведенные из подобных обобщений, никогда не могут быть достоверно познаны или предсказаны. Если то, что все люди умрут – это лишь вероятностная истина, то и то, что Сократ умрет – тоже лишь вероятно. Тот факт, что мы миллионы раз видели, как встает Солнце, не доказывает, что оно взойдет и завтра.
Окончательным выводом из этого анализа Юма является скептицизм: не существует достоверного знания объективной реальности («фактов»), только наше восприятие («отношения между идеями»»). Мы обладаем лишь вероятностным знанием объективной реальности. Даже научное знание, как думал Юм, тоже представляет собой лишь вероятностное, а не достоверное знание, так как наука предполагает принцип причинности, а этот принцип, согласно Юму, является лишь субъективным обобщением, созданным нашим сознанием. Ведь из-за того, что мы видим постоянную взаимосвязь птиц и яиц, из-за того, что мы часто наблюдали, как птицы откладывают яйца, мы естественно предполагаем, что птицы являются причиной яиц. Но мы не можем видеть причинность саму по себе, то есть истинных взаимоотношений между яйцом и птицей. И уж мы точно не видели нашими собственными глазами самого «принципа причинности». Так Юм и делает вывод, что в действительности мы не обладаем знанием реальности, хотя и думаем, что обладаем им. Если мы относимся к виду «Юмо сапиенс», то все должны быть скептиками.
Кант перенял анализ Юма, но в итоге отказался от его скептических умозаключений. Он смог избежать этих выводов, утверждая, что человеческое мышление справляется со стоящей перед ним задачей. Просто эта задача не в том, чтобы соответствовать объективной реальности (Кант называл это «вещи-в-себе»), то есть отражать или копировать ее. Напротив, наше мышление скорее создает или конструирует реальность, как художник создает произведение искусства. Определение известного объекта зависит скорее от познающего субъекта, чем наоборот. Человеческое мышление прекрасно справляется со своей задачей, но его задача не в том, чтобы узнать, какова реальность, а в том, чтобы создатьее, сформировать и структурировать ее, а также придать ей смысл. (Кант различает три уровня придания смысла: две формы восприятия («аперцепции»): время и пространство; двенадцать абстрактных логических «категорий», таких как причинность, необходимость, отношения; и три «формы чистого мышления»: Бог, самость (self) и мир). Таким образом, скорее мир формируется нашим знанием, чем наше знание формируется миром. Кант назвал эту мысль «Коперниканской революцией в философии». Это обычно называется «эпистемологическим идеализмом» или «Кантовским идеализмом», чтобы подчеркнуть различие с эпистемологическим реализмом.
(Эпистемология – это раздел философии, изучающий человеческое познание. Но сам термин «эпистемологический идеализм» может использоваться в различных значениях. Если имеется в виду вера в то, что скорее наши идеи, чем объективная реальность, являются объектами нашего познания, то в этом смысле и Локк и Юм являются эпистемологическими идеалистами. Но если мы имеем в виду, что человеческие идеи (или знание, или мышление) сами скорее определяют реальность, чем определяются ей, то Канта следует считать первым эпистемологическим идеалистом).
Значимым для понимания логики является то, что, если мы соглашаемся с Юмом или Кантом, то сама логика становится просто манипулированием символами, а не принципами для упорядоченного истинного понимания упорядоченного мира. Например, согласно эпистемологическому идеализму, общие «категории», такие как «отношение» или «качество» или «причина» или «время», представляют из себя лишь наши мыслительные классификации, а не реальные черты того мира, который мы исследуем.
В подобной логике «род» и «вид» означают нечто совсем иное, чем в Аристотелевой логике: они означают лишь больший класс или меньший подкласс объектов, который мы мысленно создаем. Но для Аристотеля «род» - это основная составляющая реальной сущностной природы вещей (например, «животное» - это род человека), а вид – это сущность целого (например, вид человека – «разумное животное»).
Еще одним случаем, когда современная символическая логика просто манипулирует ментальными символами, в то время как традиционная Аристотелева логика выражает постижение объективной реальности, является интерпретация условных (или «гипотетических») предложений, таких как «Если пойдет дождь, то я промокну». Аристотелевская логика, как и здравый смысл, объясняет это предложение как понимание истинной причинности: дождь является причиной того, что я промок. Я предсказываю следствие из причины. Но символическая логика не допускает этой простой и понятной интерпретации. Она скептически относится к «наивному» допущению эпистемологического реализма о том, что мы можем знать истинные причины. Это и создает радикально противоречащую здравому смыслу (или, как они очень мягко говорят, «контр-интуитивную») «проблему практического применения».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: