Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Финал «оттепели», по-разному отмеченный Анатолием Эфросом, Юрием Любимовым и Олегом Ефремовым в Москве, в Ленинграде обозначили «Тремя сестрами» Чехова, «Мещанами», а также невыпущенной «Римской комедией» Л.Зорина. В последнем случае речь шла о пьесе, которая открыла советским комедиографам неисчерпаемую жилу: сопоставление нашей действительности с римской. История писателей Диона и Сервилия, их отношений с императором Домицианом читалась как утренняя газета, зал закрытого просмотра жадно ловил намеки и хохотал (на чем жизнь спектакля и оборвалась). На вопрос, кто уничтожил спектакль, ответы существуют разные. То, что ленинградские власти хотели этого — очевидно. Так же очевидно, что Товстоногов мог бы спектакль отстоять (пьеса была разрешена Вахтанговскому театру и никакого тотального запрета на нее не было). Наиболее убедительной кажется догадка современного критика: режиссер сам задушил свое детище 35. Товстоногова не прельщали лавры Таганки. Скандалов он избегал, театр аллюзий его, в сущности, никогда не интересовал, он занимался работами «глубинного бурения». К тому же отстаивать «Римскую комедию» надо было в ситуации, когда БДТ был приглашен на Парижский театральный фестиваль. Сервилий взял верх в душе режиссера: он разрешил закрыть свой спектакль и даже не попытался извлечь из этой истории необходимых моральных дивидендов: все свершилось в тишине. Эластичность была вознаграждена. Вскоре режиссер был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, а его театр поехал в Париж с новой редакцией «Идиота» (на ленинградской премьере, как сообщает историк БДТ, использовались билеты, заготовленные для «Римской комедии») 36.
Тем важнее были прорывы в классику. В Чехове Товстоногова заинтересовала тема коллективного убийства. Именно в этих неожиданных словах он сформулирует тот факт, что все персонажи пьесы, зная о дуэли Соленого и Тузен- баха, палец о палец не ударили, чтобы предотвратить гибель. То, что барона играл Сергей Юрский, тоже не было случайностью. Ломалась судьба этого поколения, вкусившего свободы. Режиссер предлагал свой анализ ситуации, в котором на первый план выходила тема всеобщего паралича воли. Он предъявлял свой счет говорливой интеллигенции, добровольно уступающей свой дом «шершавому животному». Мало кто почуял тогда в прогнозе Товстоногова холод предвидения. Этот холод приняли за рассудочность. В спектакле недоставало нерва, общественного протеста, на который был еще спрос. Печальная объективность смертного приговора не воодушевляла поколение «лириков».
«Три сестры» были поставлены в 1965 году, а в следующем сезоне Товстоногов выпустил «Мещан». Это был итог его первого десятилетия в БДТ, и он подвел его горьковским спектаклем.
Чехову, как известно, «Мещане» не понравились. Он считал, что отвратительный старик, поставленный в центр драмы, не может ее держать: мелкий домашний тиран не вызовет зрительского соучастия. Товстоногов поверил Чехову, как он поверил Пушкину в грибоедовском случае. Горьковская тенденциозность, выразившаяся даже в говорящей фамилии героя ·— Бессеменов,— была перепроверена беспощадной логикой действенного анализа пьесы и тем историческим опытом, которым владел Товстоногов. В результате, не меняя ни одного слова, режиссер внутренне перестроил конфликтную систему драмы. Бессеменов оказался трагикомическим вариантом короля Лира, который, правда, не экспериментировал с разделом державы, а, наоборот, пытался всеми силами развал дома и уход детей предотвратить.
Режиссер нашел магический кристалл, который преобразил заурядную драму. Люди включены в круговорот мертвых понятий, изживших себя представлений. Они не могут вырваться из этого круга, разыгрывая, по выражению героя пьесы, «драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «ни туда ни сюда». Чтобы сыграть вот это самое «ни туда ни сюда», Товстоногов применил технику абсурдистского театра. Он преподнес ее Горькому, так сказать, в дар от искусства нового времени.
Дом Бессеменова существовал в атмосфере наваждения, которое было предъявлено «сюрреалистическим» панно, начинавшим и завершавшим спектакль. Оно было выполнено в виде семейной фотографии. В центре — благообразный старик, строгость, седая борода, все признаки благополучного купца, прожившего правильную жизнь, сколотившего капиталец и вырастившего детей. Они окружают его плотным кольцом: родные дети — Петр и Татьяна, приемный сын Нил. Но все это — на фоне огнедышащего Везувия, который они не замечают!
Фантазия провинциального фотографа давала стилевой сигнал зрелищу. В доме том было все взаправду, как полагалось в горьковских пьесах: «настоящий» потолок, люстра, мощный шкаф, цветы в горшках. Зритель даже не сразу понимал, что чего-то тут недостает. Приглядевшись, соображал: в павильоне нет стен. Обои в цветочек были натянуты прямо на барабане-заднике, дом существовал в открытом пространстве и в нем играли не просто извечную пьесу под названием «Ни туда ни сюда», а нечто гораздо более существенное.
Старик Бессеменов — Евгений Лебедев выходил к утреннему чаю царственно-ритуально. И.Соловьева и В.Шитова в статье «Вселенная одного дома» этот остроумный стилевой сигнал тут же расслышали: «В спектакле Товстоногова режиссерская ремарка «скрип — входит Бессеменов» сродни ремарке шекспировской: «Трубы. Входит король» 37. Несмазанная дверь выла весь спектакль, выдавая некий беспорядок, тайный недуг, поселившийся в доме (этот скрип станет лейтмотивом бессеменовской жизни, так же как хриплый бой огромных напольных часов). Движения старика были сосредоточенными, видно было, что грызет его дума, что не спал он ночь и хочет обсудить со своими домочадцами нечто очень и очень важное. Истово и долго, с расчетом на окружающих он клал крест, клал демонстративно, чтобы все видели, что он страдает и с чем-то важным обращается к Господу. Дочь Татьяна — Эмма Попова вставала за его спиной и тоже выполняла ритуал, но, повернувшись, он обнаруживал, что кладет она крест совершенно равнодушно. Перед тем как сесть за общий стол, снова грубое нарушение векового чина: дочь бухнулась на стул раньше отца, он это не пропустил, выждал, чтоб она встала, только тогда сел и начал свою утреннюю «проповедь». «Пиленый сахар тяжел и несладок, а стало быть, невыгоден»,— он говорил эту ерунду патетически, с глубочайшим подтекстом, как откровение. И так по всей пьесе.
Бессеменов учил дом уму-разуму, но никто не хотел его слушать, кроме испуганной старухи жены, боязливо подсовывающей ватрушку, чтобы чем-нибудь заткнуть ему рот и предотвратить скандал. Старик всем надоел, дом надоел, ритуал надоел. Петр — В.Рецептер фальшиво, одним пальцем наигрывал «Марсельезу»; Татьяна, обидевшись на грубое замечание о затянувшемся ее девичестве, заплакала. Скандал становился неизбежным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



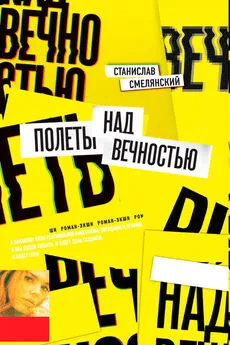

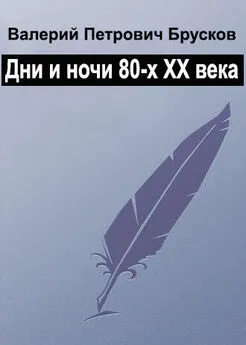
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

