Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пастернак определил книгу как кубический кусок горячей, дымящейся совести. Слова эти я почему-то вспомнил на Вашем «Борисе». А когда это есть, то будет и все остальное».
Не я один писал тогда такие письма. Таганку пришли защищать многие литературоведы и театроведы. Любимов, как всегда, что-то менял, снял так называемую андропов- скую тельняшку с Самозванца — Валерия Золотухина, что-то еще сделал с Годуновым — Николаем Губенко. Ничего не помогло. Спектакль задушили.
Летом 1983 года Любимов уехал в Англию ставить «Преступление и наказание». Там дал корреспонденту «Таймс» интервью, озаглавленное «Крест, который несет Любимов». В Москве началась паника: со времен Михаила Чехова никто из русских режиссеров так не разговаривал с властью, тем более через границу. Противостояние длилось несколько месяцев. Любимов, вероятно, рассчитывал на Андропова, не зная, что тот уже безнадежно прикован к искусственной почке. Театральная Москва сжалась в ожидании погрома. Все понимали, что Любимов бросил на кон не только свой дом и свою жизнь, но и судьбу нашего театра.
Режиссер ждал ответа Андропова, а челядь генсека ждала его смерти. Дождалась, и буквально через несколько недель был издан указ об освобождении Любимова с поста художественного руководителя — «в связи с неисполнением своих служебных обязанностей без уважительных причин». Ни в этой смехотворной формулировке, ни в том, что Любимова заочно исключили из партии, не было ничего загадочного. Обычная рутина. Загадка была в другом. Начальник Московского управления культуры В.Шадрин, выполняя решение руководства, представил труппе Театра на Таганке нового главного режиссера. Это был Анатолий Эфрос.
Человек со стороны
Анатолий Эфрос прибыл в Театр на Таганке под конвоем «человека с ружьем» (так Любимов — «глядя из Лондона» — обыграл театральную ситуацию). Смена одного художественного руководителя на другого, столь естественная в иной ситуации и в иной стране, в Москве тех лет воспринималась как человеческая катастрофа. Анатолий Эфрос разрешил себе войти в чужой театральный «дом» без приглашения хозяина и вопреки его воле. Надо знать, чем был тот «дом» для московской публики, чтобы оценить положение. На Таганке, как в «Современнике» или в БДТ у Товстоногова, все крепилось цементом общей памяти. Прожитая жизнь и память об ушедших соединяла всех теснейшими узами. Любому пришельцу тут было бы очень трудно, но в данном случае дело усугублялось тем, что не дом менял хозяина, а ненавистное государство навязывало дому нового владельца. По Москве змеиным шепотом поползло слово «предательство». Любимов взывал к небесам, а Эфрос никаких заявлений не делал. Встреченный гробовой тишиной, он пообещал осиротевшей труппе только одно: будем много работать. Он, видимо, полагал, что поставит несколько спектаклей, и не только «таганская шпана», но и весь мир поймет, что он пришел не разрушать чужой дом, а спасти его. Он прекрасно сознавал, что Любимов не вернется. Он, как и все мы, жил в стране по имени Никогда. Оттуда, куда исчез создатель Таганки, никто и никогда еще живым не возвращался. Эфрос не был политиком, он был художником, он верил, что искусство сможет преодолеть «общественное мнение». Он слишком верил в силу и магию спектакля.
Одной из важнейших причин, побудивших его прийти на Таганку, была та, что к началу 80-х годов его собственная театральная «семья», которую он создавал пятнадцать лет в Театре на Малой Бронной, оказалась на грани развала. Приход на Таганку, таким образом, был порожден кризисом самой идеи «театра-дома». Эта первородная наша идея обернулась крепостной зависимостью участников общего дела не только от государства-собственника, но и от своей театральной «семьи». Система государственных театров, сложившаяся в основных чертах в тридцатые годы и взявшая за основу МХАТ (в том виде, в каком он существовал при Сталине), в сущности, извратила основу того, что изобрели основатели МХТ. Театр и люди театра обменяли свою неустойчивую, кочевую свободу на полу- нищенскую стабильность. Ни у кого не было естественного и важнейшего в искусстве права ухода и «развода». В новых условиях угроза потерять свой «театр-дом» стала и для актера, и для режиссера равной угрозе уничтожения. Печальная судьба так называемых свободных режиссеров и актеров (нескольких на всю страну) была у всех на виду.
Феномен Анатолия Эфроса, крушение его театральной «семьи», которое совершилось в начале ВО-х, приобретает общий интерес.
Как помнит читатель, Эфрос начал создавать свой «дом» под чужой крышей, изгнанный в 1967 году из Театра Ленинского комсомола. Запрет «Трех сестер», первого его спектакля в Театре на Малой Бронной, не сломил его волю, а надломил ее. С тех пор его искусство в прямые отношения с современностью почти не вступало. Иногда он ставил Алексея Арбузова, и очень хорошо ставил, но в ар- бузовских сказках его интересовали те же вечные темы, которые волновали его в Шекспире или Достоевском. «Советское», если уж он прикасался к нему, становилось странным, неожиданным, будто пронизанным каким-то иным светом. Так он ставит «Платона Кречета» Александра Корнейчука (1968) или «Человека со стороны» Игната Дворецкого (1971). Последний случай особенно интересен, потому что Эфрос нежданно-негаданно начал целое направление современной сцены, связанной с так называемой производственной драмой. Но у Эфроса это не была «производственная драма». То был спектакль о человеке, который попадает в наше зазеркалье, в идиотски вывернутые условия жизни. То, что дело происходит на металлургическом заводе, или то, что герой пьесы Чешков — инженер, для Эфроса не имело никакого значения. Это могло произойти в театре или в больнице, герой мог быть режиссером или врачом. Важна была только ситуация: «человек со стороны», то есть нормальный человек, и компания хорошо организованных «здешних», имеющих свою мифическую идеологию и свои способы уничтожения любого, кто не из их стаи.
Механику такого рода Эфрос изучал не по Дворецкому, а по Шекспиру. В «Ромео и Джульетте» (1970) он пытался пройти по всем кругам застарелой ненависти двух родов. Он начинал спектакль великолепно поставленной сценой драки слуг, которая была микромиром зрелища. Под итальянским жарким солнцем лениво совершалась ритуальная перебранка. Слуги распаляли себя, накручивали, чтобы затем свиться в яростном клубке, как псы. Драка возникала как результат давящей всех пустоты. Вражда и была идеологией пустоты. Она заполняла жизнь, давая людям цель.
Джульетта — Ольга Яковлева и Ромео — Анатолий Гра- чев выросли в этой Вероне. Но зов иного мира бросил их друг к другу. То не была страсть юной девочки и мальчика, еще ничего не изведавшего. Это была страсть земная и, если хотите, какая-то осмысленная: это была спасительная любовь, возможность выжить «голубям среди вороньей стаи». Взрослый мир был лишен привычно бутафорского «шекспировского» оперения. Вернее, сквозь это оперение вдруг прорывалось нечто бесконечно грубое, наглое, почти уголовное. В этой Вероне привыкли ненавидеть. Схватить человека за лицо или вывернуть другому руку, как это делал на балу папаша Капулетти — Леонид Броневой, здесь ничего не стоило, так же как убить человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



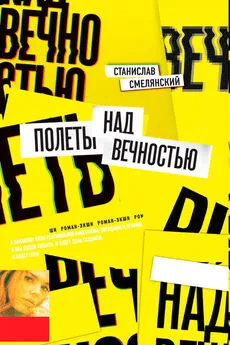

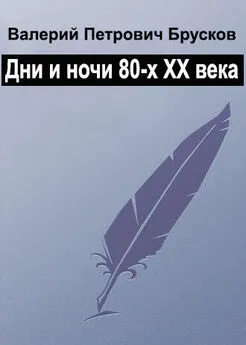
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

