Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Давид Боровский, который в 70-е годы сотрудничал не только с Любимовым, но и с Эфросом, предложил ему пространство притчи, какой-то каретный сарай, сделанный из старых досок, с одним круглым окошечком наверху и полуосыпавшимся витражом. Ближе к авансцене находилась верхушка деревянных ворот, похожая на какое-то надгробие со стертой надписью. Наверху сидели нахохлившиеся голуби, театральные фонари на ножках были «одеты» в женские юбки и чепцы: единственный намек на внешний сюжет мольеровской пьесы.
В гулком мировом сарае Дон Жуан — Волков и Сгана- рель — Лев Дуров начинали выяснять свои непростые отношения. Сцена была тесна для их броунова кружения. Иногда один из них уходил в зал, а второй, пытаясь найти очередной убедительный аргумент, искал оппонента глазами в темноте, среди зрителей, втягивая таким образом публику в философскую дискуссию. В этой дискуссии не было никакого занудства. Если хотите, это был страстный спор у последней черты: не столько двух людей, сколько двух половинок одного разорванного сознания. Дуров связывал своего Сганареля с хозяином крепчайшими нитями. Он пытался своими крестьянскими, народными средствами спасти душу безбожника. А безбожник, издеваясь над слугой, в то же время жить без него не мог. Он нужен был ему как постоянный оппонент: этот Дон Жуан жаждал опровержения.
Сганарель представлял интересы небес. На огромном темпераменте, захлебываясь, он демонстрировал своему хозяину целесообразность божьего мира, природы, человеческого тела, наконец. Он призывал в свидетели небо, дерево, совал под нос безбожнику свои руки, гордился жилочками, сосудами, ребрами, которые так ловко пригнаны друг к другу. В поисках какого-то последнего аргумента он сбрасывал рубаху, буквально взлетал на отвесную стену сарая и... падал с высоты бездыханным. Звучал вновь какой-то трогательный мотив старинной музыки, а потом в нее вступал хор ангельских детских голосов, оплакивающих нашу веру и наше безверие.
Сганарель верил в рвотную настойку и ревень. Дон Жуан верил только в то, что дважды два четыре. Женщины на его пути были лишь очередным аргументом в споре. Он их не совращал и не обольщал. Он экспериментировал над терпением небес. Каждый раз он, казалось, вопрошал Всевышнего: «Ну, если ты есть, так покажись, покарай меня после этого обмана». Но небеса молчали, а их земной защитник в виде темного крестьянского парня спора выиграть, конечно, не мог.
Этот бескорыстный злодей Дон Жуан, как чеховский Иванов, как вампиловский Зилов, искал веры и не находил ее. Его отчаяние питалось московским воздухом больше, чем текстом Мольера. Его наказание скорее походило на расправу. Командор в виде невзрачного человечка просто выходил к «естествоиспытателю» и чуть дотрагивался до него. Не каменной десницей — ладонью. Этого было достаточно. Эфрос потом в своей книге вспомнит какого-то хирурга, который знал больных, настолько уверенных в смерти от предстоящей операции, что к ним, казалось, достаточно было прикоснуться карандашом, чтобы они умерли.
Дон Жуан лежал тут же на авансцене, оскорбленные и обманутые им женщины сидели рядом. Они были похожи на группу скорбящих родственников. Сганарель метался в тоске, теребил мертвого и отчаянно вопил о пропавшем жалованье. Эта простая фраза подавалась курсивом: Эфрос великолепно умел взорвать новым смыслом самую тривиальную сентенцию. Не жалованье пропало, пропала часть души. Не с кем ему теперь спорить и доказывать целесообразность мира. Некому больше испытывать небеса. Опустела земля без этого грешника — к такому парадоксальному финалу подходила эта притча, рожденная в 1973 году на сцене бывшего Еврейского театра.
Далекий от Брехта Эфрос «остранял» нашу жизнь при помощи классики. Он учился пониманию человека, науке, которую применительно к «Женитьбе» он назвал однажды «ошинеливанием». «Ошинелить» значило очеловечить, найти метод, который позволяет открыть человеческий смысл шедевра (печально известно, что введение какой-то вещи в ранг шедевра почти автоматически убивает ее живой смысл).
В 1975 году Эфрос обратился к «Женитьбе», фарсу Гоголя, который, несмотря на репутацию шедевра, никогда не имел серьезного успеха на отечественной сцене. Анекдот о скучающем холостяке, которого пытаются насильно оженить, а он уже перед венцом выпрыгивает в окно, не вписывался в контекст «великого Гоголя». Смех, казалось, был примитивным, а слез тут никто не чувствовал.
Эфрос почувствовал. Он читал пьесу лирически, с изумлением обнаруживая моменты братского единения не только с неудачливым беглецом Подколесиным, но и с самым последним из женихов. Это был урок театрального проникновения в философию автора. Она открывалась простым, но чрезвычайно эффектным приемом материализации желаемого, воображаемого, существующего лишь в сознании или даже подсознании героев. Под торжественный распев «Многая лета» из театральной арки, как из церковных врат, выходил Подколесин — Волков и Агафья — Яковлева. Окруженные свидетелями брачного торжества, они шли вперед под все нарастающий церковный распев. И вдруг все это великолепие исчезало, как мираж, разом повернувшиеся вокруг оси темные жалюзи-створки открывали по периметру сцены многократно тиражированную фигуру странного бегущего человека. И оставшийся наедине с собой герой произносил первую фразу пьесы: «Вот как начнешь эдак на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно нужно жениться».
Режиссер будто снимал верхний пласт сознания персонажей и пробивался к тайникам и закоулкам души. Человек вел запутанную игру с самим собой. Он беспрерывно оглядывался на чужое слово и оценку. Он жил в плотном окружении своих видений, которые были богаче реального мира. Эти видения окружали Агафью кольцом чудесно разодетых детишек, сплетались в образе будущих женихов или папаши с огромной рукой, «усахарившей» мамашу. Пьеса Гоголя оказалась густо населена.
Среди женихов в воображении невесты появлялся сразу же Иван Кузьмич Подколесин, чтобы потом стать видением неотступным. Художник спектакля Валерий Левенталь разделил их: Она — в своем маленьком ситцевом мирке, Он — в своем обжитом доме, из которого его пытались насильно вытащить. Мечты героев, как сказал бы Достоевский, перескакивали через пространство и время, законы бытия и рассудка и останавливались лишь на точках, о которых грезит сердце.
В сущности, Эфрос рассказывал историю несостояв- шегося счастья, тем более потрясавшую, что она была извлечена из пьесы, насквозь и грубо истолкованной сценической традицией. Социальным марионеткам режиссер возвращал человеческую душу, наделял их общечеловеческими комплексами и несчастьями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



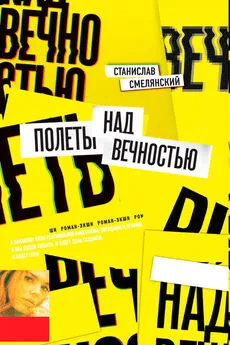

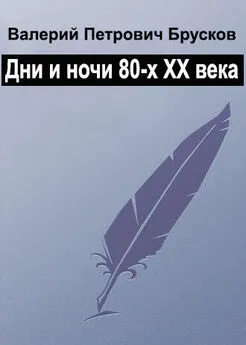
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

