Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Васильев свой театр налаживал гораздо более мучительно. В середине 70-х, изгнанный из МХАТа, режиссер приходил в разные московские театры с идеями, которые казались бредовыми. От него шарахались как от прокаженного. Театру Советской Армии, где я тогда служил, он предложил, например, знаменитую музыкальную комедию сталинских времен «Свадьба в Малиновке», увлекая наших полковников тем, как фанерные трактора будут пахать фанерную землю. Социалистический реализм он уже тогда воспринимал как особого рода стиль, который готов был театрально осваивать.
Первый свой «дом» он обрел в конце 70-х. Тогда московские чиновники решили дать во владение Андрею Алексеевичу Попову и трем его ученикам Драматический театр имени Станиславского. Васильев успел там сделать «Первый вариант «Вассы Железновой» Горького (1978), а затем «Взрослую дочь молодого человека» (1979) Виктора Слав- кина — два спектакля, которые немедленно выдвинули его в ряд первых режиссеров страны.То, что игрался первый (то есть дореволюционный) вариант пьесы Горького, не было филологическим эпатажем. Отказ от «второй редакции», созданной в 1935 году, был отказом от советской идеологии, которой Горький под конец жизни подчинился. Васильев вернулся к оригиналу, начал с «медленного разбора» истории, разыгравшейся в доме богатой волжской купчихи Вассы Железновой. Метод разбора восходил безусловно к Станиславскому, к его способности сочинять на основе пьесы роман человеческой жизни. Повествовательность, однако, имела внутри тугую тайную пружину. Публике предлагалось следить не за тем, за чем она привыкла следить. Васильев начал, в сущности, опыт по спасению «психологического реализма» и той актерской техники, которую когда-то искал основатель МХТ. По классическому канону метода сюжет тут двигала не столько цель (весьма смутная), но груз прошлого, то есть скрытая сила исходного события. С первых же секунд зрелища атмосфера, сценическая среда и человек проникали друг в друга и начинали сложное взаимодействие.
Жизнь в доме волжской купчихи Вассы Петровны начинается на рассвете. В клетке, поднятой почти под колосники, разгуливают потревоженные голуби. Голубиная воркотня странно сплетается со звуками блюза. Горничная хихикает над страницами бульварного романа. Читает долго, потом встает, подходит ближе к авансцене, делает какое-то замысловатое па, разминая затекшиеся члены. Начинают собираться домочадцы. Васса — Елизавета Ники- щихина, маленькая женщина, «хозяйка Волги», подошла к зеркалу, распустила волосы. Шаркающей, вялой походкой, в носках и белой ночной сорочке, на которую наброшена шуба, утомленный распутной ночью выходит братец хозяйки Прохор — Георгий Бурков. Вносят попыхивающий жаром самовар, чинно рассаживаются. Появляется сынок Вассы Павел — Василий Бочкарев: горбун, с женой которого дядюшка развлекался минувшей ночью, оглядывает всех ненавистным взором, а потом, отбежав вглубь сцены, под голубятню, открывает дверь на улицу и оглашает мир радостно-жутким воплем: «У Железнова жена гулящая!».
Спектакль можно было пересказывать, как детективный роман, но напряжение носило не словесный, а чисто театральный характер. Оно шло, казалось, из самого сценического воздуха, которым Васильев научился распоряжаться. У него объявился очень сильный союзник — художник и архитектор Игорь Попов (еще со времен «Соло для часов с боем»). Они разделили пространство дома Железно- вой на две неравные части по диагонали (эта стенка или занавеска, образующая зеркальное двоемирие, на многие годы станет авторским знаком большинства васильевских композиций). За белесоватой стеной умирал старший Железное; там были, так сказать, владения смерти, здесь — обиталище странной жизни, которую предстояло исследовать. Стену украшал характерный орнамент, взятый из декора Художественного театра. Изобразительная цитата напоминала об эпохе модерна, к которой принадлежал «первый вариант» пьесы, но также иронически о недавнем прошлом режиссера Васильева, изгнанного из МХАТа. Тревожная воркотня голубей вклинивалась в паузы спектакля, накликая всему этому миру мрачный исход.
Семейство Железновой добывало себе «волю». Развратник и растлитель старший Железнов, смерти которого ждут не дождутся домочадцы; его сыновья, порченые дурной болезнью и мужским бессилием; забубенный Прохор, насильно склоняющий к любви жену юродивого племянника; горничная, задушившая ребенка, прижитого от сына Вассы; наконец, сама хозяйка дома — все они хотят «освободиться». Традиционные социальные мотивы борьбы за наследство, грубо прописанные у Горького, трансформировались в спектакле до неузнаваемости. Не о наследстве тут шла речь. Режиссерский микроскоп Васильева открывал и прозревал характер российского «освобождения».
Три акта спектакля были тремя срезами «свободы». В первом действии, где за кривой стеной умирал старший Железнов, тяга к воле выплескивалась лишь в диких и беззаконных взрывах чувственности. Дом начинал «гулять». «Социальное» отражалось в чувственном с невиданной на нашей сцене откровенностью. Второй акт проходил в исповедях, признаниях и истериках. Повесть о человеческой жизни открывала то, что можно было бы назвать подпольем свободы. Злобная ненависть приводила к первым подземным толчкам, доводили до смерти служанку, горбун
Пашка пытался убить дядюшку. В третьем акте начиналась вакханалия вольницы.
Хозяин умер, власти больше нет; Васса, отвечая какой-то собственной затаенной идее, отпускала вожжи. Хмельная отрава свободы оборачивалась разгулом звериных страстей. В припадке бессильного гнева, грозя убийством, юродивый горбун Пашка хватал корзинку с голубиными перьями, какими-то обезьяними дикими прыжками подминал пространство и забрасывал этими перьями всю сцену. Дом начинал кружиться в белой пляске смерти. По тому, как на нож сошлась семья, можно было представить размер другой катастрофы, которую Васильев «вчитал» в паузы горьковской пьесы, законченной за год до начала первой мировой войны и за четыре года до Октябрьской революции.
Спектакль поразил Москву. Через двадцать лет после «Современника» и через четырнадцать лет после появления Театра на Таганке рождался новый театральный ансамбль. Актеры известные и никому не ведомые становились мастерами, обладающими помимо индивидуальных особенностей неповторимой маркой своего «дома». Лирический дар режиссера метил их всех своим знаком. Через много лет А. Васильев, используя терминологию Гротовско- го, будет говорить о «вертикальном» театре, то есть о религиозном, высшем оправдании актерской профессии (по отношению к Станиславскому П. Марков называл это «этическим оправданием лицедейства»). Он начал поиск такого оправдания театра в «Вассе». Плоть и дух актера представали в новом единстве. Режиссера интересовала не проблема «пола» и даже не противоречивая цельность человека — предмет эфросовской режиссуры, на которой Васильев учился. Проявления человека в «Вассе» были настолько непредсказуемыми, что надо было думать не столько о «противоречивой цельности» человека, сколько о его «вариативности». Новый психологизм открывал человека не как строгое единство, а как набор возможностей, и эта увлекательная идея впервые стала «читаться» на сцене. При всей жесткости театральной структуры она питалась из глубоких лирических источников. Васильев использовал театр для выяснения отношений с самим собой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



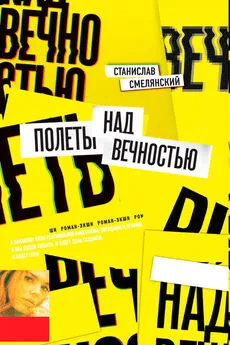

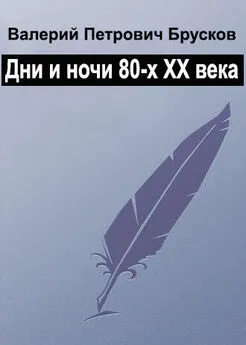
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

