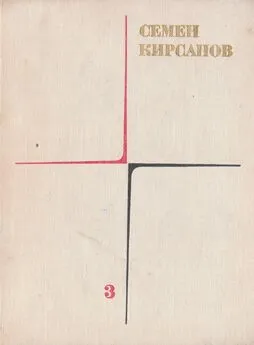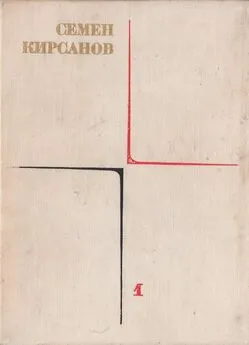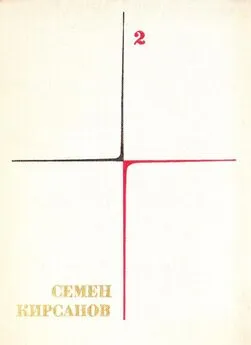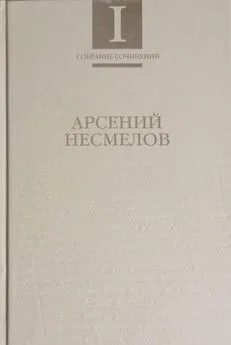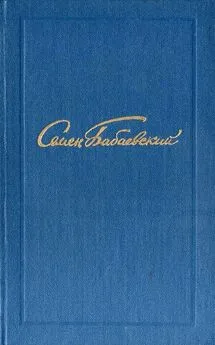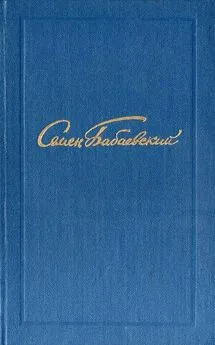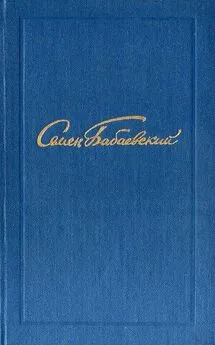Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
- Название:Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы краткое содержание
В третий том Собрания сочинений Семена Кирсанова вошли его гражданские лирические стихи и поэмы, написанные в 1923–1970 годах.
Том состоит из стихотворных циклов и поэм, которые следуют в хронологическом порядке.
Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я уезжал на фронт без провожатых,
со мной не шли родители мои,
платков, к глазам заплаканным прижатых,
я не видал, — я не имел семьи.
Ничем, ничем себя не приукрашу:
да, убегал, да, прятался в котле,
предпочитал бродяжью бражку нашу
труду и сну в покое и тепле.
Я ускользал бродяжничать за город,
где поезда гудят издалека…
Но знал: опять возьмет меня за ворот
отеческая строгая рука.
Какая-то настойчивая сила
тянулась под бульварную скамью,
меня из беспризорщины тащила
и из сиротства ставила в семью.
Голодный — не заплачу, не заною:
мне все равно, в какой трущобе спать!
Но вдруг шаги. Опять пришли за мною.
Шаги отца — я с ним иду опять.
И вновь прощаюсь с нищетой и грязью,
смываю сажу едкую с лица
под неотступным присмотром ни разу
ко мне не приходившего отца.
Пятнадцать лет тому назад он умер,
но, муть воспоминаний отстранив,
я чье-то смутно чувствовал раздумье
о месте сына в будущем страны.
Досказывать не буду. Вы поймете,
что я увидел в мой последний миг,
когда скрестил глаза на пулемете,
когда пополз к бойнице напрямик;
когда я сердце, как гранату, кинул,
когда к земле я пригвоздил себя,
когда я все отечество окинул
и крикнул кровью: «Вот моя семья!»
Я очень мало знал о моей матери. Только помню комнату в два окна и на кровати пружинные вмятины, где она лежала. Видно, была смертельно больна. Помню пальто, платок, кружева… Вот была бы жива — и меня б на вокзал провожала, к оренбургской бы шали крепко прижала. А когда бы последний звонок, завздыхала бы тяжко: «Ах ты, мой Сашка, на кого ты меня покидаешь, сынок?..» А я бы в ответ: «Мамуся, я скоро вернусь. А вы не тревожьтесь, пишите. Книжку какую-нибудь пришлите. Таких, как я, бережет судьба. Вы, мамусь, берегите себя». А она за вагоном бежала бы… Нет, никто не провожал меня на войну. Этого я никому не ставлю в вину, это не жалоба… Был еще на вокзале плакат. На нем был нарисован пожар или просто красивый закат. И боец, па меня похожий лицом, и женщина рядом с бойцом в черном простом платье. На этом плакате я увидел надпись: «Боец, тебя зовет Родина-мать!» Как это мне понимать? Я и решил — буквально. Женщина на плакате вокзальном — моя настоящая мать, она пришла меня обнимать на прощальном свидании. А сейчас она в ожидании стоит в окне. Отворяет калитку, в почтовый ящик бросает открытку мне… Теперь уже не будет неумных вопросов: «Чей? Почему на свете один?» Спросят — скажу: «Я — Матросов. Родины признанный сын». И улыбнусь, открытку прочтя. Это, конечно, мечта. Но разве мне за мечтание кто-нибудь сделает замечание? Просто дорога длинна, снег — целина, и мысли, как хлопья, гуляют в рассудке. Шутка ли, к фронту идем четвертые сутки!
Теперь, когда бесчисленны отсрочки
конца моих правофланговых лет,
мои глаза не сузятся на точке
клочка земли, где мне открылся свет.
Был это город или деревенька, —
но разве только землю и траву,
ту, по которой полз на четвереньках,
я Родиной единственной зову?
Теперь я вижу дальше, зорче, шире,
за край слобод, за выселки станиц!
Еe обнять — единственную в мире —
не хватит рук, как ими ни тянись!
Когда Папанин заплывал на льдине
в хаос чужих и вероломных льдов,
за родиною-льдинкой мы следили
из-за башкирских яблонных садов…
Без родины, без матери, без друга
немыслимо и близко и вдали, —
как в море — без спасательного круга,
без лодки, без надежды, без земли.
Ее словам я беззаветно внемлю.
Людских надежд и молодости щит, —
народ, или ребенка, или землю
так, как она, никто не защитит!
Сейчас я вижу будущие годы
и мысли просветленной не гоню,
я знаю: будут многие народы
к нам в Родину проситься, как в родню.
Мы дверь откроем братьям беспризорным,
как равных примем в материнский дом,
и от себя отнимем, и накормим,
и в братском сердце место отведем.
В валенках — вода.
Можно и потужить.
Но радуюсь, как никогда, —
в самый раз жить!
Не думаю, что умру
там — на передовых,
если и в грудь вихрь,
если и упаду,
думаю — не пропаду,
варежкой кровь утру
и подымусь к утру.
Если и упаду —
на руки ребят!
Вынесут, поведут,
сердце растеребят,
снова поставят в строй,
буду живой опять
по целине лесной
следом на след ступать…
Ну и замерзли мы за день, простыли! Избы в селах пустые, жителей нет. Беда! Холодно стало, трудно в России. Из труб ни дымка, ни следа. Немцы — уже приходили сюда. Пусто, холодно, худо. Всех до конца угнали отсюда. И старика не оставили. Это чтоб нам не согреться нигде. Ходим до ночи в талой воде — снег не держится, тает… А как светает — морозец прохватывает, схватывает, и враз ледяные валенки, брат. Это Гитлер во всем виноват. В каждую хату руку засунул, вывернул с кровью на двор. Эх, поскорее б дернуть затвор, очередь дать по сукину сыну! Вот зашли мы в дом на постой. Дом пустой. Печь — развалина. Самим не согреться, не высушить валенок. Легли мы. Лежим, и дрожим, и шепчемся между собою: «Дойдем вот такие, продроглые, к бою, — в госпиталь впору лечь. Лучинки и то не зажечь!» А что, к разговору, если выправить печь? Не веришь? Ей-богу, будет гореть! И чаю сварить, и руки погреть… Материал в углу под руками, глина да грязь; не беда — побывать печниками. Слазь, да смотри не сглазь! Нам работать не в первый раз! Мы — комсомольцы, с ремесленным стажем! Давай-ка вот этот камешек вмажем. Теперь, брат, разогреем в печи концентрат. Замечательная штука — русская печь; в доме тепло и розово, в трубе — вой. А товарищи хвалят меня, Матросова: «Парень ты мировой, с головой! Выход находишь везде, с тобой в беде не погибнешь! Любим мы очень Матросова Сашку. Простой, душа нараспашку, и боец, и печник, и певец. Подбрось-ка еще в амбразурку дровец. А так — до утра бы синели мы…» Уснули бойцы, укрылись шинелями. Чего они хвалят меня? Ну, поправил печурку, ну, расколол сосновую чурку для тепла, для огня. Славно! Изба не коптится, и тепло-тепло. Чудится мне, что печка — дупло, поет из него золотая Шар-птица, и перо за пером улетает в трубу. Все спят. Мне не спится. Думаю я про нашу судьбу.
Я не отведал, я едва пригубил
от жизни, от весны перед войной.
Но помню — шло все бедное на убыль,
плохое уходило стороной.
Не буду лгать: довольство и богатство
не одарило радостью меня,
но время стало к маю продвигаться —
белее хлеб и глаже простыня.
Я не из тех, кто изучал в таблицах
колонки цифр о плавке чугуна;
не знанье — чувство начало теплиться
о том, что мы — особая страна;
Интервал:
Закладка: