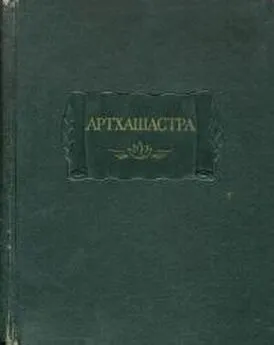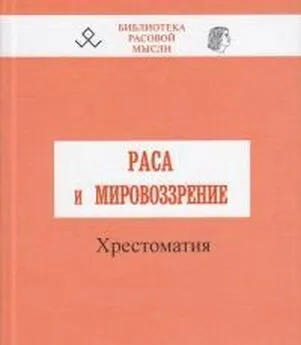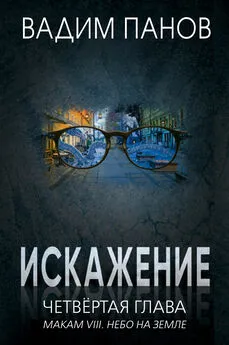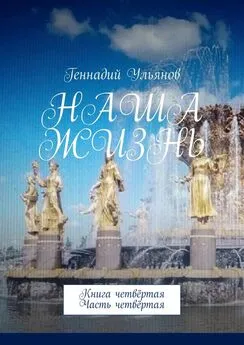User - ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
- Название:ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
User - ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ краткое содержание
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ожидала паломников и череда разнокалиберных колоколов и колокольчиков. Как храму
без колоколов? Их звон всегда оздоравливал округу!
В книжном шкафу теснились книги по искусству, редкие издания произведений
Пушкина, толстые папки с архивными документами, чертежи и планы, сочинения самого
Гейченко.
Семён знал, что Пушкин был крещён в Московском Храме Вознесения. Там же венчался
с Наталией Николаевной.
И всю жизнь Поэт мечтал построить собственный Храм Вознесения, отдать должное
Богу за свою страдальческую и всё же счастливую судьбу.
Гейченко взялся строить этот Храм Вознесения, заручившись духовной помощью Самого
Поэта. После войны Михайловское лежало в руинах, как и его любимый родной Петергоф.
Шедший с Запада враг света и доброты, враг культуры хотел уничтожить память России,
её Душу, навсегда искоренить высокий её Дух, её силу.
Здесь на каждом шагу притаились мины, снаряды. Была заминирована могила Поэта. И
группы бойцов-сапёров, прошедших всю войну с томиком Пушкина, как с иконой, на груди,
успешно разминировали и могилу и весь заповедник.
И здесь Пушкин помогал мирянам восстанавливать свой Храм Вознесения. Семён
Степанович на каждом шагу чуял эту помощь. Он чувствовал Поэта на каждой тропинке, за
каждым деревом и на окраине, где на призыв: «Александр Серге-е-е-ич! Ау-у-у-у!» Поэт
отзывался гулким «Ау-у-у… Иду-у-у-у!»
А Хранитель , на основе архивных и собственных чертежей, своими руками возрождал,
возводил усадьбы не только в Михайловском, но и в Петровском, наследном имении прадеда
Поэта, и в Тригорском, имении друзей Пушкина.
Гейченко объединил все усадьбы в единый музейный комплекс. Он владел всеми
инструментами: и рубанком, и топориком, и лекалом, и пилой, и циркулем, и линейкой.
Словом, действовал как Царь Пётр, в своё время строивший собственноручно корабли
для Державы. И каждое возводимое им заново строение было для него наполнено живым духом.
290
«Изба – это рукотворное чудо, живое существо, которому мерещатся «явь и сонь».
Созданная из Природы – и сама – Природа».
Некогда было отдыхать от бесконечных поездок по городам в поисках пушкинских
реликвий. Некогда было спать, дремать, поддаваться бесконечным болям и болезням, некогда
впадать в отчаяние от нехваток и недостатков полуголодного послевоенного быта, который для
него здесь начинался с блиндажа и шалаша. Отчаяние прорывалось иногда в письмах к
родителям: «Всё… Больше не могу…».
Но он снова восходил над своей минутной слабостью и усталостью, и вновь встречал
паломников: своих друзей, учёных, студентов. школьников. И не только из Ленинграда – из всех
уголков Отечества! А они приезжали и вбирали в себя полной грудью чудный воздух, каким
напитана аура заповедника.
Ещё первый министр просвещения А. В. Луначарский в 20-е годы. приехав сюда,
заметил: «Здесь легко дышится!»
Это замечают все. А всё потому, что воздух пропитан ритмами Пушкинской Поэзии.
Здесь хранятся высокие сердечные вибрации Души Поэта, создавшего за время пребывания в
своём имении множество поэм, стихов и прозаических произведений.
И Сам Поэт подтверждает это.
ЗДЕСЬ ДЫШИТ ПУШКИНЫМ СТРАНА
Здесь до высоких обобщений
Взлетал Поэта гордый Дух.
Здесь ритмами наполнен слух.
Здесь поэтичных настроений
Полны и пахарь и пастух.
Здесь каждый куст стихами дышит.
Здесь каждый ствол Поэта слышит.
И Сороть, вторя соловью,
Поёт Поэту «Ай ла вью!»
Здесь ясен, лёгок дум полёт,
Широк, как псковский небосвод.
И, съединив все времена,
Здесь дышит Пушкиным страна.
А во дворе усадьбы в Михайловском паломников встречали золотые петухи Гейченко.
Каждый из них вышагивал твёрдым шагом, выпячивая красно-золотистую грудку, с гордым
видом хозяина.
Их было уже в 1978 году 33, как раз по числу лет пребывания Семёна Степановича в
здешних местах.
И каждый из них, златопёрых, был символом деловитости, раннего подъёма,
неусыпности, бесконечной хлопотливости и проникновения в суть бытия и быта родового
имения Поэта.
Пушкин сам поначалу бурно тосковал в этом отдалённом от центра «медвежьем углу».
Отец не стал другом ему в этой дали. Присутствие семьи не смягчало суровости наказания
изгнанием.
Он чувствовал себя в опале. И поутру отправлялся на своём буром аргамаке в леса и
поля.
Вот оно – раздолье, освобождающее сердце от обид и душевных болей! Сосновые рощи и
луга, отлогий берег Сороти, любимый дуб, одиноко стоящий на невысокой горке.
Часто Пушкин устремлялся в поля и леса пешком, босым, без городской одежды,
простоволосым. Лес и деревня были Его кабинетом. Здесь рождались строки его поэм и стихов.
И воздух заповедника сохранил отзвук настроений Поэта:
ЛЁГКОСТЬ ПОЭТИЧНЫХ НОТ
Деревня – вот мой кабинет,
Деревья, травы, птицы, звери.
По-деревенскому одет,
291
Обычаям деревни верен,
Босым любил бродить по лесу,
Без галстука и сюртука,
И видел, как сквозь облака
Ко мне спускается строка, –
Благодарение Зевесу!
И вскоре мыслей пёстрых ворох
До края полнил мой блокнот:
И шум ветвей, и листьев шорох,
И лёгкость поэтичных нот
В глуши звенящих птичьих хоров.
Сегодня все времена и пространства, кажется, соединились в едином порыве: поведать,
как откликается на зов сердца Поэта каждое дерево, река, соловей, вся аура лесов и полей, где Он
жил, творил, гулял, тосковал, влюблялся.
Изучая творчество Поэта, быт старых поместий, Природу, вкладывая неисчислимые
усилия в дело восстановления усадеб и воссоздавая истинно пушкинский колорит в этих местах,
Гейченко вправе был сказать:
«Пушкин родился дважды: первый раз – в Москве. А вторично – здесь, в Михайловском,
как зрелый мастер Слова, как мыслитель, художник, философ.
Народным Поэтом Он стал здесь, когда увидел труд земледельца, его каторгу, его хлеб,
его корову, его могилы, его дух, услышал народные песни, увидел скитания народа, узрел
древние границы своего государства. Всё это на него обрушилось…»
Здесь всё было созвучно с состоянием Пушкинской Души и всё принадлежало Ему без
остатка. Он понимал лепетанье голубой Сороти, журчанье ручьёв, шелест листьев, чувствовал
«трав прозябанье», словом – всё, сущее здесь.
И тоска эта сказалась в чудесной элегии «Вновь я посетил», возникшей в 1835 году, когда
Поэт вновь посетил Тот уголок земли, где Он провёл изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня.
И сам, покорный общему закону,
Переменился я. Но здесь опять
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: