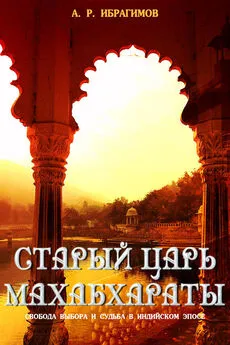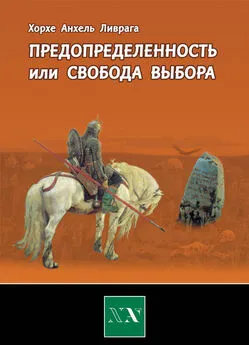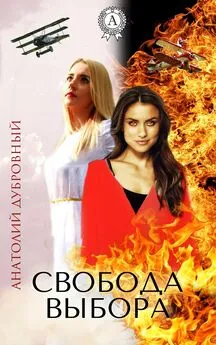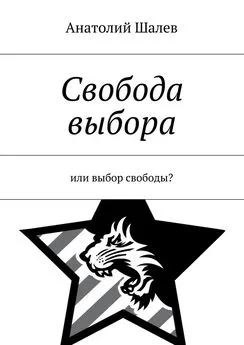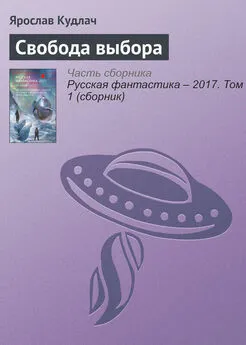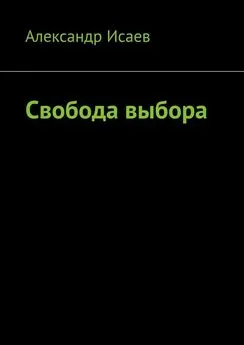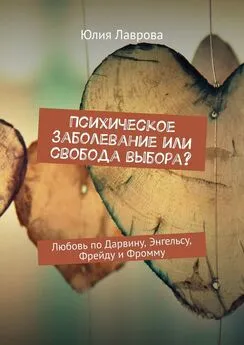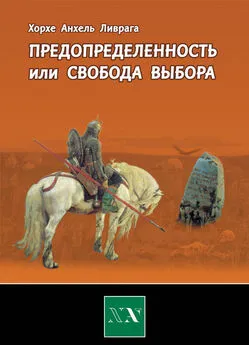А. Ибрагимов - Cтарый царь Махабхараты. Свобода выбора и судьбa в индийском эпосe
- Название:Cтарый царь Махабхараты. Свобода выбора и судьбa в индийском эпосe
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Издать Книгу
- Год:2016
- Город:Montreal
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Ибрагимов - Cтарый царь Махабхараты. Свобода выбора и судьбa в индийском эпосe краткое содержание
Книга рассчитана на читателей, интересующихся мифологическим и героическим эпосом и отражением в нём представлений древних народов о судьбе и ответственности индивида.
Cтарый царь Махабхараты. Свобода выбора и судьбa в индийском эпосe - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Судя по контексту, Гандхари заторопилась рожать именно, чтобы не отстать от Кунти, ведь в большинстве формул престолонаследия решающую роль играет старшинство. Действительно, сказание недвусмысленно подчёркивает напряжение династической гонки обретения потомства, постоянно сопоставляя прогресс Гандхари и Кунти (Мбх I, 114, 1): «Между тем, как у Гандхари зародыш находился уже целый год… Кунти вызвала вечного Дхарму ради зачатия…» Кунти опередила Гандхари (Мбх I, 107, 24): «…И вот… родился царевич Дурьйодхана. По времени рождения царевич Юдхиштхира был старше его», добавим, на целый год. Соревнование матерей продолжается (Мбх I, 114): «В тот же самый день, когда родился Бхима…» (второй сын Панду), «родился также и Дурьйодхана!..» Об этом же думает, очевидно, и вторая жена Панду, прекрасная Мадри (Мбх I, 115): «Печаль моя… возникла не от того, что я услышала о рождении у Гандхари сотни сыновей!.. Эта моя великая скорбь происходит от (моей) бездетности…» Сопоставление будущих соперников за трон Кауравов начинается с колыбели (Мбх I, 116, 25–28): «Так родилось у Панду пятеро сыновей, дарованных богами, могучих и славных… И пятеро их, а также сотня (сыновей Дхритараштры), приумножившие род Куру, выросли все в короткое время, точно в воде лотосы».
Слепота Дхритараштры II. Аномальное развитие героя
Врождённое уродство, инвалидность или просто физическая слабость и «забитость» будущего героя и богатыря – важнейший мотив героического эпоса. Напомним, что Илья Муромец до тридцати лет был «запечным сиднем», не владевшим ни руками, ни ногами; его в одночасье излечили и сделали богатырём таинственные старцы. В шорской поэме будущий герой пять лет лежал в золе под казаном, откуда однажды появился зрелым богатырём. Герой якутских олонхо родился недоношенным и тридцать лет лежал в навозе, пока не превратился в богатыря; другой якутский герой до тридцати лет не ходил и не говорил. Смягчённый вариант неполноценности находим у заглавного героя древнеанглийской поэмы Беовульфa, который в юности был всеми помыкаемым увальнем, позже превратившись в непобедимого витязя:
«Прежде гауты
презирали его и бесчестили…
ибо слабым казался он
и беспомощным,
бесполезным в бою…»
И нартский герой Батрадз в детстве не подаёт надежд: он грязен, копается в золе и навозе. Отметим, что у некоторых персонажей эпоса уродство, вместо того, чтобы уступить место «богатырству», оказывается эксплицитно связано с ним. У величайшего кельтского героя Кухулина, несмотря на ряд аномалий (семь зрачков, по семь пальцев на руках и ногах), внешность юного красавца, но в ярости схватки он ужасно преображается, и сага даёт чрезвычайно натуралистичную картину такой трансформации: «Ступни, колени и голени повернулись назад, а пятки, икры и ляжки оказались впереди… Обратилось лицо его в красную вмятину. Внутрь втянул он один глаз… Выпал наружу другой глаз Кухулина, а рот дико искривился. От челюсти оттянул он щёку, и за ней показалась глотка, в которой до самого рта перекатывались лёгкие и печень Кухулина» (СУ, «Похищение быка из Куальнге»).
Бесчисленные подобные примеры в эпосе разных народов убеждают, что временное уродство может быть признаком чудесного происхождения и, как следствие, необыкновенных задатков и особого предназначения героя. В наиболее общем виде это фольклорный мотив аномального развития: герой либо отстаёт от сверстников (см. выше), либо опережает их, совершая удивительные для своего возраста подвиги. Новорождённый Кухулин выглядит трёхлетним, а вот как у новорождённого Бхимасены проявляется необыкновенная мощь величайшего силача Мбх (Мбх I, 114): «Как только родился Врикодара» (Бхимасена – А. И.), «произошло такое чудо: упав с колен матери на скалу, он разбил её вдребезги». Младенец Геракл греческих сказаний и мальчик Бхимасена Мбх расправляются с ядовитыми змеями, которых подпустили их тайные враги (Гера и Дурьйодхана, соответственно). Новорождённый персидский герой Кей-Хосров выглядит годовалым, a десяти лет уже охотится с луком на львов (иранский эпос «Шахнаме», в дальнейшем – ШН); богатырь Нестур семи лет мстит за смерть отца, напав на вражеское войско (ШН).
Итак, будущий герой либо слаб, болезнен, a то и уродлив, но позже превращается в богатыря, либо, наоборот, чуть ли не с рождения обладает неестественной силою. Для Дхритараштры, которому пророчество обещает силу «десяти тысяч слонов» (и однажды он её проявит), ни один из этих сценариев не реализуется. Мы не слышим ни о ранних подвигax слепого принца [слепота, в принципе, не помеха: Самсон и слепой ухитрился уничтожить врагов, обрушив колонны дворца, a вполне исторический Иоанн Слепой (Люксембургский) доблестно сражался и погиб в битве при Креси (1346 г.)], ни о его позднейшем излечении с превращением в «активного» богатыря. Можно думать, что сказание готовит его к другой роли – мудреца и отца героя по преимуществу. В дальнейшем мы увидим, как слепой царь Кауравов справится с этой ролью.
3. Предназначение Дурьйодханы: вмешательство неба
Теперь посмотрим, какую роль сказание предназначило долгожданному первенцу слепого Кауравы – могучему Дурьйодхане. В рассмотрении этого вопроса нам поможет следующее обстоятельство. Сказания самых разных народов применяют довольно стандартный набор общефольклорных мотивов, предвещающих появление и характеризующих задатки будущего героя. В результате эпическая аудитория может заранее догадываться о судьбе, свершениях и предназначении героя. Попробуем сделать это и мы. С этой целью из деталей рассказа о рождении Дурьйодханы мы вычленим те, в которых можно распознать повторяющиеся мотивы фольклора (подтверждением их «повторяемости» послужат примеры использования сходных сюжетных элементов другими сказаниями). Кроме того, анализ сходных сюжетов подскажет нам, какова функциональная нагрузка того или иного мотива, то есть что он предвещает герою.
В сюжете о рождении Дурьйодханы можно обнаружить следующие общефольклорные мотивы.
1. Вмешательство божества в зачатие. В случае Дурьйодханы таким божеством является Шива. Мотив усилен помощью божественного мудреца Вьясы (очевидный проводник воли неба).
Этот мотив в бесчисленных вариациях чрезвычайно распространён в сказаниях. Прежде всего, отметим случаи, когда бог или богиня являются одним из родителей (и на свет появляется герой великой судьбы и/или важной миссии): шумер Гильгамеш – сын богини Нинсун, царь Колхиды злодей Эет – сын бога солнца Гелиоса, ирландец Кухулин – сын бога Луга, в самой Мбх Карна и Пандавы имеют небесных отцов, а Бхишма – сын богини Ганги. Более завуалированной формой участия неба в рождении героя является помощь божества бездетной чете (но результат тот же – появление «необходимого» сказанию персонажа). Общеизвестный пример – рождение первенца Исаака у столетнего Авраама и девяностолетней Сарры по воле Бога. Сходным образом появляется потомство у Ревекки (Быт 25), Рахили (Быт 29); так рождаются герой Самсон (Суд 13) и пророк Самуил (1 Цар 1). Ещё один вариант чудесного зачатия находим в Мбх: праведная царица Бхадра, овдовев, с помощью небожителей родила семерых сыновей от трупа своего мужа (Мбх I, 112, 29–34). Очевидный прообраз данного мотива можно найти в теогонии: египетская богиня Исида с помощью магии зачала Гора от (расчленённого!) трупа своего мужа Осириса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: