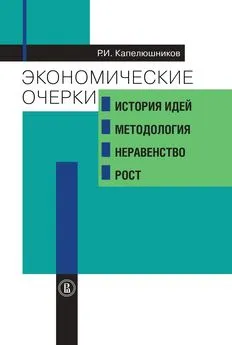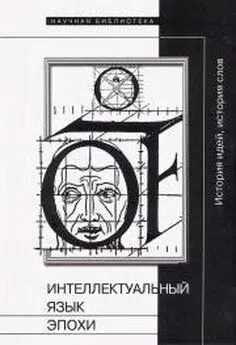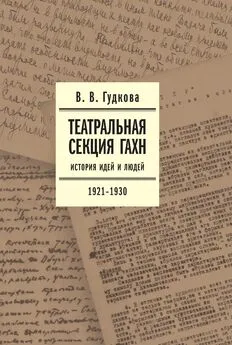Ростислав Капелюшников - Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
- Название:Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2223-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ростислав Капелюшников - Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост краткое содержание
Монография продолжает линию анализа, представленную в предшествующем сборнике работ автора «Экономические очерки: Методология, институты, человеческий капитал» (2016).
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
133
Еще пример: Аджемоглу и Робинсон отмечают, что отмена работорговли и рабовладения в Британской империи в начале XIX в. стала финалом широкой общественной кампании, развернутой аболиционистами [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 345]. Но британцы, являвшиеся налогоплательщиками, никак не могли быть материально заинтересованы в принятии подобного решения, так как при отмене рабства государству пришлось взять на себя обязательство по выплате бывшим рабовладельцам солидной денежной компенсации.
134
«Возможно, Ким Ир Сен и члены коммунистической партии на Севере верили в конце 1940-х годов, что коммунистическая политика будет лучше для страны и экономики. Однако к 1980 г. стало ясно, что коммунистическая экономическая политика на Севере не работает. Продолжающиеся попытки лидеров цепляться за такую политику и за сохранение власти можно объяснить только их стремлением преследовать свои интересы за счет остального населения. Плохие институты остаются в силе явно не в интересах всего общества в целом, а в интересах правящей элиты и подобное положение вещей просматривается в большинстве случаев институциональных провалов» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 406–407].
135
Это, конечно, не означает, что я предлагаю заменить один монокаузальный подход (институциональный) на другой монокаузальный подход (идеационный). Речь идет лишь о том, что при анализе «критических развилок» в экономической истории (термин Аджемоглу и Робинсона) не стоит переоценивать роль интересов и недооценивать роль идей. Возможно, наиболее точная формулировка по вопросу о соотношении между ними была предложена в свое время Максом Вебером: «Интересы (материальные и духовные), а не идеи господствуют непосредственно над деятельностью людей; но „картины мира“, создаваемые „идеями“, очень часто служили вехами, указывающими путь, по которому динамика интересов направляла действия» [Вебер, 2006, с. 223].
136
«Гарантии прав собственности», «запреты на использование насилия», «защита от экспроприации», «защита от конфискационных налогов», «свобода контрактов», «открытый вход на рынок», «свободное перемещение товаров и людей во времени и пространстве», «свобода конкуренции», «доступ к справедливому суду», «равенство перед законом», «верховенство права», «отсутствие дискриминации» и т. д.
137
«Поскольку государственная власть является одновременно ограниченной и достаточно широко распределенной между различными общественными группами, могут появиться и развиваться экономические институты, способствующие процветанию» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 64]. Рассредоточение политической власти уменьшает опасность, что государство станет орудием в руках каких-либо заинтересованных групп и что через него они начнут перераспределять ресурсы общества в свою пользу.
138
В данном пункте панинституционализм жестко оппонирует теории модернизации, где роли распределяются обратным образом. В ней предполагается, что общества, которым удалось достаточно далеко продвинуться по пути социально-экономической модернизации, рано или поздно отказываются от авторитаризма и переходят к демократии [Lipset, 1959]. Не демократизация служит триггером экономического роста, а, напротив, экономический рост служит триггером демократизации. Отсюда понятно то категорическое неприятие, с каким нортианцы относятся к теории модернизации [Acemoglu et al., 2005 b ; 2008; 2009]. Не вдаваясь в детали этого спора, отметим, что ни та ни другая сторона не допускают, что их объяснительные схемы могут сталкиваться с проблемой пропущенной переменной. Нельзя исключить, что ни экономическая «инклюзивность» не обусловливает напрямую политическую «инклюзивность», ни наоборот. И та и другая могут быть производными от действия некого третьего, общего для них фактора. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль являются, по-видимому, идеи: именно идеологический сдвиг, имевший место в XVIII в., мог стать той силой, которая подтолкнула к переходу как от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту, так и от авторитарного правления к современной демократии.
139
Парадоксально, но панинституционалисты не замечают, что предлагаемая ими логика неприложима к генезису главнейшего для них самих института — правам собственности, которые «по возрасту» намного старше государства. Как известно, люди начали заниматься земледелием и скотоводством (которые были бы невозможны без разграничения прав собственности) задолго до того, как на историческую арену вышло государство.
140
«Боязнь созидательного разрушения — это главная причина, по которой рост уровня жизни, начиная с неолитической эпохи и до промышленной революции, не был устойчивым» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 252].
141
Подсчитано, что если в развитых странах крупные столкновения с применением силы возникали в среднем один раз в 60 лет, то в развивающихся один раз в 8 лет [Cox et al., 2015].
142
Тезис панинституционалистов о том, что переход от «плохих» (авторитарных) к «хорошим» (демократическим) политическим институтам всегда и везде являлся сознательным выбором элит, также плохо согласуется с известными фактами. Из примерно 200 изученных случаев лишь в 6–8 % из них демократизация была результатом сознательного выбора правящих групп, тогда как во всех остальных — результатом ошибок и просчетов, которые — при попытках сохранения «плохих» политических институтов — они совершали [Treisman, 2017].
143
Первый такой эпизод датируется как минимум третьим тысячелетием до н. э.
144
Как показывает анализ, вероятность возникновения «расцветов» была выше: 1) в местах активного взаимодействия различных культур и идей; 2) в центрах международной торговли; 3) в периоды консолидации общества после серьезных социальных и политических потрясений. В то же время их почти никогда не наблюдалось в изолированных обществах, а также в периоды длительной социальной и политической стабильности, когда в социуме воцарялся конформизм, подкрепляемый обычаями и предпочтениями элит [Goldstone, 2002].
145
По прошествии времени потомки начинали ностальгически вспоминать об этих периодах как о минувших «золотых веках».
146
В том же духе высказывается Б. Вайнгаст: «Средневековый мир был лишен… надежных прав собственности, защиты контрактов, верховенства права и отсутствия насилия» [Weingast, 2016, p. 191].
147
Исторические неточности в книге Аджемоглу и Робинсона подробно разбираются в работе: [Арсланов, 2016].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: