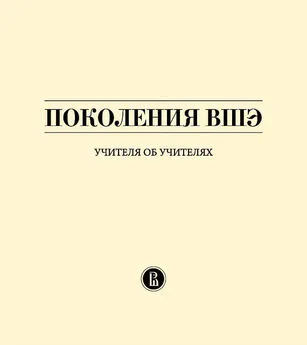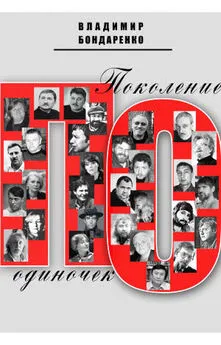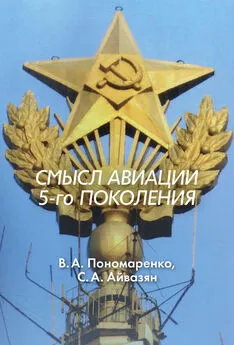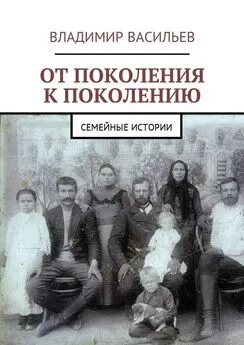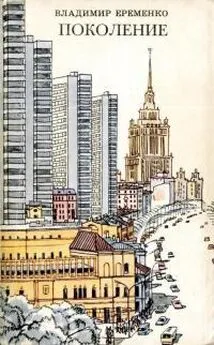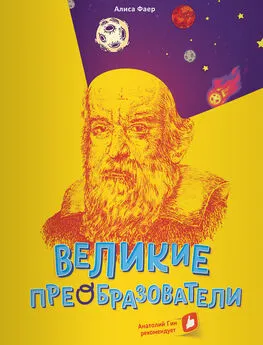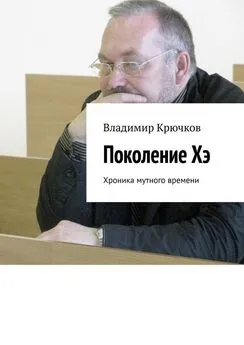Владимир Селиверстов - Поколения ВШЭ. Учителя об учителях
- Название:Поколения ВШЭ. Учителя об учителях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1077-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Селиверстов - Поколения ВШЭ. Учителя об учителях краткое содержание
Издание рассчитано на абитуриентов, студентов, выпускников университетов, всех интересующихся историей и судьбами фундаментальной науки и образования в России.
Поколения ВШЭ. Учителя об учителях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сколько-нибудь профессиональным историком Германии (как и Франции, Италии, Мексики и любой иной страны) нельзя стать, не покидая России, причем осваивать страну специализации нужно начинать как можно раньше – студентом или, в крайнем случае, аспирантом. Конечно, это не означает, что представителям всех остальных специальностей полезно оставаться дома. Молодым людям – студентам, а в особенности аспирантам – необходимо выезжать за границу хотя бы на семестр или два, просто для расширения собственного сознания.
Однако палку не стоит перегибать: российскому историку, занимающемуся историей Германии, противопоказано полностью растворяться в немецкой историографии (притом что она очень затягивает). У нас свой взгляд на многие вещи. Я не в том смысле, что русские какие-то особенные, но просто так исторически сложилось, что Россия – это не Германия, а Германия – не Россия. Следовательно, российский взгляд на историю Германии – всегда взгляд извне. Конечно, в нашей вненаходимости множество минусов, мешающих нам понимать прошлое чужой страны. Но имеются и некоторые плюсы, которые нужно научиться использовать.
Так, например, мы не порабощены стереотипами, сложившимися в немецкой историографической традиции еще в XVIII или XIX веке и с тех пор механически воспроизводящимися из поколения в поколение. Немецкий школьник, студент, докторант, а обычно даже и профессор впитывает эти стереотипы с младенчества и потому воспринимает их как нечто извечно существующее, естественное и неоспоримое – как облака на небе и траву на лугу. Зато, поскольку мы вырастаем совсем из другой традиции, нам легче заметить, что те или иные немецкие историографические аксиомы были сформулированы в определенных исторических обстоятельствах, несут на себе оттиск всех забот своего времени, а потому аксиомами на самом деле вовсе не являются…
Профессиональная специализация, выбранная мной еще на втором курсе университета, определила в конечном счете всю жизнь – научную и не только. Она же приучила меня к непростому положению посредника между двумя академическими мирами, ни к одному из которых нельзя принадлежать полностью. Ведь мне всегда приходится ощущать себя в некотором смысле маргиналом среди российских историков, поскольку занимался и занимаюсь не «нашим» прошлым. (Такое самоощущение бывает, впрочем, у многих «всеобщников».) И в то же время мне навсегда суждено оставаться маргиналом и в историческом сообществе Германии, поскольку в глазах немецких историков я, естественно, не «их», хоть и занимаюсь по большей части «их» историей.
Однако добиться этой трудной роли маргинала в квадрате оказалось чрезвычайно сложно. Уже хотя бы потому, что любое национальное историческое сообщество – во всяком случае, до самых недавних пор – не склонно было принимать в себя чужаков. Коллегу, явившегося извне, можно, и даже похвально, пустить в ученики. Но давать ему слово всерьез и сколько-нибудь считаться с его суждениями по существенным вопросам «нашей» истории – это недопустимо. Сейчас положение начинает меняться – по мере эрозии национальных историографий и усиления международных связей.
(Может, со временем история все же станет столь же интернациональной, как физика или математика?) Мне приятно, что удалось внести собственную, пускай и скромнейшую, лепту в эти перемены. Обстоятельства сложились так, что мне много приходилось работать самостоятельно, но без тех учителей, о которых я попытался поведать выше, не получилось бы ровным счетом ничего. Пусть все сказанное выше станет выражением – конечно, слишком слабым и неполным – моей им глубочайшей признательности.
Владимир Зинченко

Для меня проблемы выбора профессии не было, потому что мой отец Петр Иванович Зинченко – известный психолог, а мама, Вера Давыдовна, изначально была педагогом, но потом по необходимости тоже стала психологом. Ее уволили из пединститута по политико-идеологическим мотивам: узнали, что ее родственник репрессирован. Слава богу, не посадили. Потом она стала преподавать психологию в Харьковской консерватории. Отец работал в институте иностранных языков, а потом получил кафедру в Харьковском университете. Вот в такой семье я жил. Мама хотела написать кандидатскую диссертацию по психологии и выбрала тему «Наказание». Мы смеялись с отцом, потому что наказывать она не умела.
Забегая вперед, скажу, что семейка-то у нас была ненормальная: сестра моя младшая, Татьяна Петровна Зинченко, тоже психолог. Сначала она окончила филологический факультет Харьковского университета, а потом стала профессором психологии в Ленинградском университете. Моя жена, Наталья Дмитриевна, окончила биолого-химическое отделение в Пединституте им. Ленина и в конце концов тоже стала психологом.
Мой сын сейчас в Беркли – он психотерапевт, как и его жена. Если бы невозможное было возможно, мы могли бы организовать неплохой семейный колледж по психологии.
Таким образом, выбора у меня просто не было. Потому что никакая физика, химия, математика меня не влекли. Влекли литература и история, но в то время – шел 1948 год – это был не лучший вариант: выбрать себе в качестве профессии историю или литературу. Поэтому оставалась психология. Слава богу, тогда уже открылись отделения психологии в четырех университетах: в Московском, Ленинградском, Тбилисском и Киевском. В Харькове такого отделения не было, поэтому я поехал в Москву, где и живу с тех пор.
Если говорить об учителях, то, конечно, первым моим учителем был отец. Он честно, хотя потом выяснилось, что лукаво, меня отговаривал от того, чтобы я шел в психологию.
Он говорил: «Послушай, психология после богословия и медицины – самая точная наука» – или: «Психология – это ведь не профессия, сейчас это специальность». И довольно узкая тогда была специальность. Мы называли ее педагогической психологией, потому что психологи находили себе место только в педагогических институтах и в качестве преподавателей, которые были нужны в школах, где почти все 1950-е годы преподавали психологию и логику.
Наверное, я счастливый человек. Мне в жизни очень повезло, потому что существовала Харьковская школа психологов. Ее основали люди, которые потом стали моими учителями в Москве (я позже назову их имена). Они воспитали коллектив психологов в Харькове в 30-е годы, хотя работали в разных местах, потому что не было одной какой-то кафедры. Телефонов тогда не было, поэтому я выполнял функцию почтальона, когда они решали собираться. В частности, я приходил с такими поручениями к Владимиру Ильичу Аснину, который поддерживал мой интерес к психологии, когда я учился в старших классах. Он вел со мной душеспасительные беседы, что-то вроде индивидуальных семинарских занятий. Кое-кого из моих будущих московских учителей я видел у себя дома, они знали меня, любили моего отца, дружили с ним. Так что меня в Москве было кому принять. Важной особенностью научной школы является то, что она учит не только знаниям, но и позиции, стилю мышления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: