Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]
- Название:Далече от брегов Невы [без иллюстраций]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Детская литература»
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций] краткое содержание
Третья повесть из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине:
1. В садах Лицея (Город поэта)
2. На брегах Невы
3. Далече от брегов Невы
4. Там, где шумят михайловские рощи
Для среднего и старшего школьного возраста.
Рецензенты: доктор филологических наук, профессор В. А. Мануйлов, кандидат филологических наук В. Б. Сандомирская
Далече от брегов Невы [без иллюстраций] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пушкин вернулся от Тучкова сумрачный. Его грызла досада, что он без разрешения Инзова не может остаться в Измаиле хоть на месяц, подробно ознакомиться с бумагами Тучкова, послушать его рассказы, почитать воспоминания. Но встреча с Тучковым запомнилась. Это явствует из «Заметок по русской истории XVIII века», которые Пушкин вскоре начал писать, где вспоминал Радищева и был беспощаден к Екатерине II и Павлу.
Обратный путь в Кишинёв лежал близ реки Кагул, знаменитого Кагульского поля. Ехали ночью, Пушкин дремал. «Когда я ему сказал, — вспоминает Липранди, — жаль, что темно, он бы увидел влево Кагульское поле, при этом слове он встрепенулся и первое его слово было: „Жаль, что не ночевали, днём бы увидели“. Тут я опять убедился, что он вычитал все подробности этой битвы».
Подробности битвы при Кагуле Пушкин знал ещё в Лицее. Помнил наизусть надпись на кагульском обелиске, что стоял в дворцовом парке. Надпись гласила: «Под предводительством генерала графа Петра Румянцева российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турского визиря Галиль-Бея с силою полторастотысячною». Он воспел этот обелиск в «Воспоминаниях в Царском Селе» и теперь оказался близ Кагульского поля…
На следующий день, вечером, пропутешествовав десять суток, Пушкин с Липранди вернулись в Кишинёв.
«Владею днём моим»
Пушкин вернулся в Кишинёв 23 декабря, а через три дня у него уже было готово большое стихотворение, которое назвал он «К Овидию».
По словам Липранди, во всё время пути на остановках Пушкин делал Записи. «Пока нам варили курицу, — рассказывал Липранди, — я ходил к фонтану, а Пушкин что-то писал, по обычаю на маленьких лоскутках бумаги и как ни попало складывал их по карманам, вынимал, опять просматривал и т. д. Я его не спрашивал, что он записывает, а он, зная, что я не сторонник до стихов, ничего не говорил. Помню очень хорошо, что он жалел, что не захватил с собою какого-то тома Овидия».
Схожесть судеб его и Овидия — оба поэты и оба изгнанники — сильно занимала Пушкина. Первой книгой, которую он взял у Липранди, были стихи прославленного римлянина во французском переводе.
И теперь, путешествуя по Бессарабской земле, столь схожей с землей соседней Валахии, где в древности томился и где умер Овидий, наблюдая ту же степь, видя тот же Дунай, Пушкин как бы встретился с живым Овидием и повёл с ним разговор.
Овидий, я живу близ тихих берегов,
Который изгнанных отеческих богов
Ты некогда принёс и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил;
И лиры нежный глас ещё не онемел;
Ещё твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моём воображенье
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга.
Холодными и мрачными казались сыну «златой Италии» Овидию придунайские степи. Такими, по стихам Овидия, представлялись они и Пушкину, пока он не увидел их своими глазами.
Его трогали слёзы и жалобы римского поэта, он понимал его, но сам вёл себя иначе.
Суровый славянин, я слёз не проливал,
Но понимаю их; изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья…
И повторяя их, понял, что ему, сыну Севера, здешняя земля кажется иной — приветливой, тёплой, благодатной.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там — а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрел увядший луг;
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея…
Послание «К Овидию» кончалось стихами:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе,
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
Нежная лира Овидия, «оробелая» в изгнании, извлекала «песни робкие», тщетно моля о прощении римского императора Августа Октавиана. Лира его, Пушкина, оставалась «непреклонной», совесть — «гордой». Он не унизил их изменой своим идеалам.
О том же писал Пушкин в письме к поэту Гнедичу, и тоже в связи с Овидием.
В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил;
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил;
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван,
Всё тот же я — как был и прежде,
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью.
Октавию [15] Октавий — император Август Октавиан. Здесь: Александр I.
— в слепой надежде —
Молебнов лести не пою.
Пушкину самому очень нравилось его послание «К Овидию». Он гордился им и непременно хотел его увидеть в печати. Предвидя, что его имя и содержание стихотворения могут испугать цензуру, готов был печатать «К Овидию» без подписи (не сомневался, что читатели узнают его) и изменил последние строки.
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.
Здесь лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.
Бессарабская земля, мирные музы и впрямь благоволили к Пушкину. Менее чем за полтора года — с осени 1820-го до конца 1821-го он написал три десятка стихотворений, «Кавказского пленника» и «Гавриилиаду», начал «Бахчисарайский фонтан» и многое другое.
Свидетелями его трудов были две его комнатки в доме Инзова, из которых первая служила прихожей и жилищем Никите Тимофеевичу, а вторая — кабинетом, спальней и гостиной молодому его барину. Здесь стояли диван, несколько стульев и стол у окна.
О занятиях хозяина говорили разбросанные повсюду бумаги и книги. В голых стенах, облепленных восковыми пулями (следы упражнений в стрельбе из пистолета), непокрытом столе, незавешанных окнах чувствовалась неустроенность, временность.
Пушкин жил как на биваке, твёрдо рассчитывая, что не окончит, подобно Овидию, свои дни в ссылке. Дома бывал мало, больше в утренние часы — своё любимое время для труда, для занятий.
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моём я не жалел об них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днём моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне…
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]](/books/1079034/marianna-basina-daleche-ot-bregov-nevy-bez-illyustr.webp)

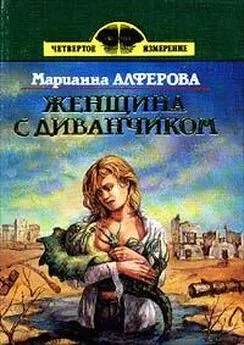
![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/262542/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih.webp)



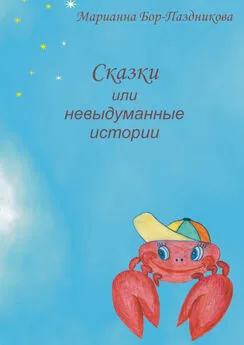
![Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]](/books/1078390/marianna-basina-na-bregah-nevy-bez-illyustracij.webp)
![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/1079031/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi.webp)
![Марианна Басина - Город поэта [без иллюстраций]](/books/1079038/marianna-basina-gorod-poeta-bez-illyustracij.webp)