Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков
- Название:История отечественной философии XI-XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентБИБКОМd634c197-6dc9-11e5-ae5f-00259059d1c2
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-7996-1363-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Емельянов - История отечественной философии XI-XX веков краткое содержание
Настоящее учебное пособие соответствует новому образовательному стандарту. В нем освещаются ключевые моменты развития отечественной философии за десять веков ее существования, дается анализ важнейших ее тем и направлений особенностей развития материалистической и идеалистической традиции.
История отечественной философии XI-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подобно Фейербаху, Станкевич не ограничивает категорию любви лишь половыми отношениями, хотя последние составляют важную ее часть: «Мне кажется, я теперь, наконец, понял, почему любовь (т. е. любовь к женщине) высшее жизни… Теперь понимаю это вполне. Как само божество лишь в человеке достигает полного своего собственного проявления конкретно, и вся прочая природа – лишь путь божества к самому себе… так и совершенная любовь… может быть лишь конкретная, любовью к человеку, который есть сам дух и соединение с ним конкретно; в любви они оба – дух и естественное в их сношениях – одухотворяются» 610.
Большое внимание Станкевич уделяет и другой категории – действительности. Хотя он и не занимался собственно политическими проблемами российской действительности 30-х гг. ХIХ в., ему не было чуждо неприятие многих ее сторон. В воспоминаниях членов кружка, в письмах самого Станкевича сохранился ряд его высказываний антикрепостнического характера. Когда Станкевич узнал от Грановского о неверном, апологетическом понимании формулы Гегеля Белинским и Бакуниным о «разумной действительности», о признании ими российской николаевской действительности «разумной», он в ряде писем 1838–1840-х гг. к московским друзьям разъясняет неверность подобной позиции. В частности, в письме к Грановскому 1 февраля 1840 г. он пишет: «Так как они не понимают, что такое действительность, то я думаю, что они уважают слово, сказанное Гегелем… О действительности пусть прочтут в Логике, что действительность в смысле непосредственности, внешнего бытия – есть случайность что действительность в ее истине – есть разум, дух» 611.
Постепенно Станкевич освобождается и от элементов религиозного мистицизма. В 1837 г. он пишет Неверову: «С годами в наших понятиях сделалось много переворотов… Было время – время мистицизма в моей жизни. Я отрекаюсь от этих идей» 612. Спустя два года он уже прямо заявляет: «Слава богу, что я не мистик» 613. Теперь русского мыслителя волнует не потустороннее, а действительность как поприще активной деятельности человека. «Действительность, – пишет он, – есть поприще настоящего, сильного человека – слабая душа живет в Jenseit (в потустороннем)» 614.
Взамен мистицизма Станкевич предлагает, подобно Фейербаху, «религию любви», говоря, что его вера «требует другого храма». Не менее волновали Станкевича и эстетические проблемы. В 1840 г. он начал писать работу «Об отношении философии к искусству», оставшуюся неоконченной. В ней и в других высказываниях об искусстве намечается переход на позиции критического реализма, идейным вдохновителем которого спустя несколько лег стал член кружка Станкевича В. Г. Белинский.
Первооткрывателем Станкевич был не только в этой области. Уже современники отмечали, что он стоял у истоков многих жизнедеятельных, прогрессивных тенденций русской общественной мысли. А. Григорьев, в частности, писал: «В сознании его, т. е. в нашем общем критическом сознании, совершился действительный, несомненный переворот в эту эпоху. Новые силы, новые веяния могущественно влекли жизнь вперед: эти силы были гегелизм, с одной стороны, и поэзия действительности, с другой. Небольшой кружок немногим тогда, не всем еще и теперь известного, но по влиянию могущественного деятеля – Станкевича… разливал на все молодое поколение… свет нового учения. Это учение уже тем одним было замечательно и могуче, что манило и дразнило обещанием осмыслить мир и жизнь» 615.
Интеллектуальная деятельность, эволюция философских взглядов Станкевича прервалась на 27-м году жизни. 25 июня 1840 г. он скончался в Италии от чахотки. Похоронен Станкевич в России, в родной Удеревке.
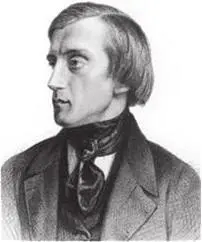
Станкевич был первооткрывателем, другом и воспитателем многих выдающихся деятелей русской культуры и общественной мысли 30–40-х гг. ХIХ в. Глубокой, обоюдоинтересной и полезной была дружба Станкевича с Виссарионом Григорьевичем Белинским. Станкевич многое сделал для становления Белинского как выдающегося критика и мыслителя. «Мы не скажем, что Белинский заимствовал свои мнения до 1840 г. у Станкевича: это было бы слишком много, – писал Добролюбов. – Но несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом так ярко и благотворно выразились в критике Белинского 616. Именно Станкевич обратил внимание Белинского на философию Гегеля, познакомил с ней, указал на слабые стороны гегелевской системы.
Критическая мысль Белинского была сильнее и решительнее мысли Станкевича. Впитав в себя многие идеи и взгляды Станкевича на философию, литературу, искусство, русский критик развил их дальше. Как писал Герцен, «взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, жизнь, которое поразило все мыслящее в России» 617.
В. Г. Белинский родился 11 июля 1811 г. в Свеаборге. Детство его прошло в городе Чембаре Пензенской области. Влияние отца-врача, учеба в Чембарском уездном училище (1822–1825) и Пензенской гимназии (1825–1828), философские споры с семинаристами, в которых «возрастала и развивалась эта неотразимая диалектическая сила, которою всегда отличался Белинский и против которой действительно трудно было устоять» 618, определили первый этап формирования мировоззрения русского мыслителя.
В 1829 г. он поступает на словесный факультет Московского университета. Лекции известных профессоров Надеждина, Мерзлякова, Каченовского пользовались особым вниманием Белинского-студента. В конце 1830 г. он закончил драму «Дмитрий Калинин». «В этом сочинении со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранство людей, присвоивших себе подобных», – характеризовал Белинский свою драму в письме к отцу 619.
Цензура не пропустила вольнолюбивое сочинение, поскольку в нем было найдено «множество противного религии, нравственности и российским законам» 620. Университетское начальство в сентябре 1832 г. исключило Белинского из университета – «по слабости здоровья и при этом по ограниченности способностей». Истинной причиной исключения был «недоброжелательный» характер мыслей студента Белинского. «Совет темных людей ( collegium obscurorum virorum ) Московского университета, исключивший студента Белинского “за отсутствием способностей”, сделал себя смешным на всю Россию», – писал один из иностранных журналов еще при жизни Белинского 621.
В эти трудные для Белинского дни он сближается со Станкевичем и обретает в его лице друга и наставника. Два года пришлось будущему критику жить в невероятной нужде, пробиваться случайной работой, грошовыми уроками. Но испытания не сломили Белинского. Более того, свое бедственное положение он снова сделал предметом глубоких философских размышлений. Идея мужественного и терпеливого переживания несчастья, и бедствий, неизбежных для человека в существующих условиях, звучит и в письме Белинского к матери от 20 сентября 1833 г.: «Не только не жалуюсь на мои несчастья, но еще радуюсь им: собственным опытом узнал я, что школа несчастья есть самая лучшая школа. Будущее не страшит меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и хотя с каким-то горестным чувством вижу, что я ничего не сделал хорошего, замечательного – зато не могу упрекнуть себя ни в какой низости, ни в какой подлости, ни в каком поступке, клонящемся ко вреду ближнего» 622.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









