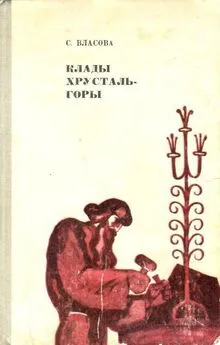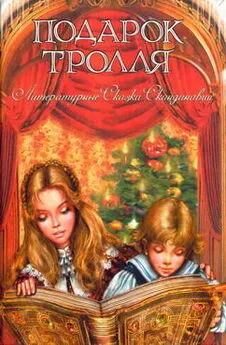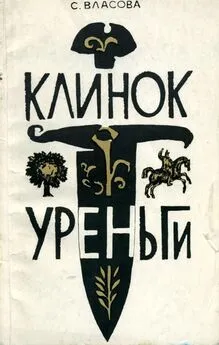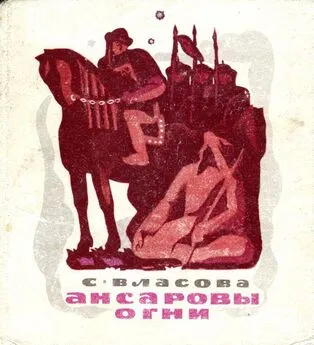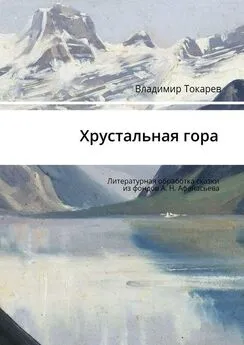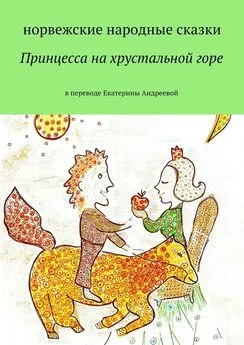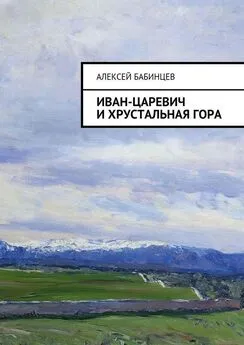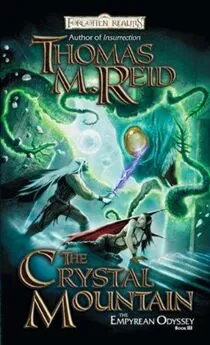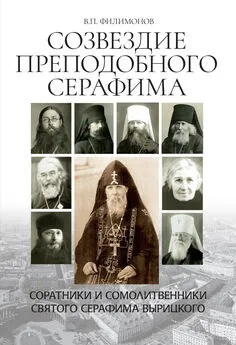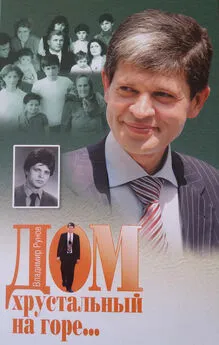Серафима Власова - Клады Хрусталь-горы
- Название:Клады Хрусталь-горы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1970
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Серафима Власова - Клады Хрусталь-горы краткое содержание
Клады Хрусталь-горы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Никто не видел в тот вечер, холодный и печальный, как вспоминал он про свою встречу с Радионом возле Дедюрихи и как он взял в руки Радионовы гусли и стал их перебирать. А потом запел любимую Радионову песню о воле и про их нелегкую долю…
Как сложилась у него песня про Радиона и Васену, он и сам не знал, но, видать, таким гневом он ее напоил, что потом, как огня, боялись господа Габиевых песен.
В песнях — сила. Самоцветная россыпь в них. Камешек самоцвет, как огонек, глаз развеселит. Так в старину говорили, а еще добавляли: «За светлой же и доброй песней пойдешь, непременно до Габия дойдешь!».
До глубокой старости дожил Габий, одряхлел и занемог. Тогда люди его ближе к заводу перенесли. На Бесеновой горе вырыли ему землянку, а женки работных носили ему еду. Как за родным отцом ходили. Когда же навек закрылись его глаза и Радионовы гусли вновь осиротели, в память о Габии, а вместе с ним и о Радионе, речку, возле которой Габий жил, Габиевкой назвали.
Пытались господа позднее эту речку назвать по-другому, чтобы люди позабыли про Габия и Радиона. Называли Светлой, Черемшанкой и еще как-то, но не получилось ничего.
Там же, где засекли Радиона, кто-то две елочки посадил. Теперь они старые, обросшие мохом, обнявшись стоят, а вокруг них по берегу пруда, на месте конного двора, огромный детский парк шумит.

СТАРИННОЕ ПОВЕРЬЕ

В старое время на уральских заводах много было разных поверий. Известно — глухомань. Кто чего плел. Правда, работный человек, что возле кричны иль в забое потел, тот не шибко верил в эти запуги и между собой свое говорил — то, чего видел и примечал, вроде такого: «Не тем он фартовым был, что в рубашке родился, а тем, что с народом удачей делился».
А то, бывало, и про нарядчиков отсыпят: «Доверился нарядчику — остался без лаптей». Жизнь тогдашняя не ранним белым снежком усыпана была. Выглянуло солнышко — и растаял снег. Темно и тоскливо жилось народу. Оттого и побасенки невеселыми были. Одним словом, как говорилось тогда: «Иван в шурфе горб набил, а щегерь Епифан капитал нажил». Вот так-то.
Ну, а старикам да молодайкам разную небывальщину плести мужики не мешали. На то, мол, и даден язык человеку, чтобы им говорить. Кто в дело, а кто и без него. Каждому в утеху.
Только одно поверье без малого на всех старых заводах в память людскую въелось. Будто при постройке на заводах плотин непременно голова человеческая клалась. А это уж любопытно, как ни говори. И было ли на самом деле такое? Впрочем, послушайте лучше о таком поверье сказ.
Не много, не мало, а годов двести назад это дело приключилось. В те поры обживался наш край. Кто в лесах оседал, кто в степи пробивался. Больше у воды все гнездились…
И вот как-то раз ватажка беглых вышла на Каму-реку. За рекой люди горушку увидали, малый заливчик. С горушки две речушки бежали. Приглянулись места новоселам. Срубили они куренную избу, потом другую и назвали свой курень Морянкой. Так одну девку среди беглых звали. Видать, была она из-за большой реки, которая, как море без берегов, по весне разливалась. Ну, а поскольку Морянка всех мужиков обшивала, кормила, за ними ходила, стали девку Добрянкой звать за ее добро к людям.
Помаленьку огляделись люди, пообстроились. Прижились в здешних местах, хоть и глухо было кругом. Зверья полно было, рыбы хоть ведром черпай. Грибов и ягод на весь год заготовляли. Тропы торили, куда можно было поделки свои сбывать.
Только одного не усмотрели люди: земля-то была графа Строганова. Тут и получилась у новоселов осечка. Как прослышал Строганов про Добрянский курень да про то, что там медную руду добывают, сразу решил прибрать народ к своим рукам. И медеплавильный завод поставить. Задумано — сделано. Пригнали еще работных людей. Стали они завод ставить, но свое ремесло не забывали. Медную посуду изготовляли — рукомойники, кувшины. Вот и говорят, что от дедов у нас, заводских, любовь к медной посуде идет.
Перво-наперво прислал Строганов управителя и приказчиков, про которых потом говорили: «До воли приказчик, после воли — подрячик». Заложили завод, поставили церквушку, казенку — кабак. Еще прислали народу. На горушках еще появились избы. Только не хватало, воды для завода. К осени плотину изладили. Только по весне как пошли вешние воды, так от этой плотины и щепок не осталось. Опять к осени новую плотину поставили, а весной такая вода пошла — сроду люди такой воды не видали. Опять все смыло, а плотину по бревешку унесло, хоть и лес на нее был поставлен самый кондовый. Принялись тогда люди в третий раз копошиться, но пришла вода по весенней поре и все унесла…
Говорили тогда: «Сыч стонет в лесу, а работный в дудке». Застонал вскоре народ от этой беды, потому что донес управитель Строганову: «Так, мол, и так, сносит плотину. Речки здесь по весне бурливы да снега большие. А может, плотинный подводит, и людишки плохо робят. Недовольство между ними большое, вот и подливают деготь в мед, где могут».
Прискакал вскоре нарочный от Строганова. Страшную весть он привез: «С виновных строго взыскать. На завод помощника из чужестранцев прислать. Разобрать дело, виновных наказать нещадно».
Началась расправа. Много работных было исполосовано розгами и плетями. Отхаживали бабы измордованных мужей и сыновей ранними березовыми вениками в жарких банях. Разнотравными настоями отпаивали. К ранам мази на Марьином корню и липовом цвету сваренные привязывали. И все же, хоть самый крупный и сильный народ на плотине работал (каждый мужик иль парень не в обхват в плечах бабьим рукам), многих не отходили, на погост снесли, а остальные, как были исхлестанные да обиженные, робить пошли…
Говорят, что и в потухшем костре угли разгораются, а у добрянских работных ненависть и не утихала, после же расправы господской пуще того в сердцах работных закипела, забурлила, словно пена в крепком квасу…
А тут еще, как назло, утром плотинный мужикам сказал:
— Как же нам с вами, добрые люди-труднички, избыть с водой напасть? Как укрепить плотину против воды? — Помолчал, бороденку свою пятерней расчесал и добавил: — Можа, етта беда-то неизбывная от того нехристя бритоуса, что в приказной избе сидит, невесть на чё обретается. Можа, — умствует, — все наше горе ему на руку? Вот и вредит он.
Молчали мужики, только вздыхали. Откуда было им знать, раз плотинный не знает. А он все говорил и говорил. Знать-то, прорвало его терпение:
— Как хлестали людей, он, бритоус, тут же стоял и на мирскую маяту глядел. Только нет-нет да и отвернется в сторону рылом-то. Это-де вам, сиволапым, в науку, — говорил бритоус. — О! О! — И, подняв свой палец кверху, закатил глаза. — Это-де не вашего ума дело — плотины строить… Потом еще чё-то он лопотал, — злобно говорил плотинный. И, повернувшись к одному из мужиков, сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: