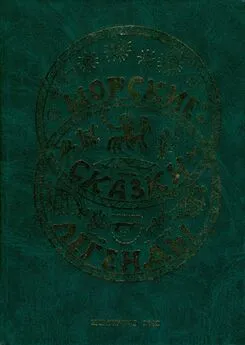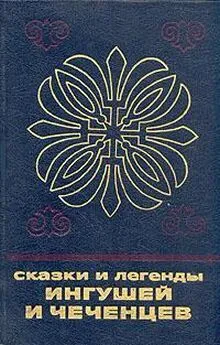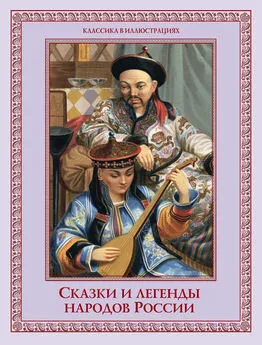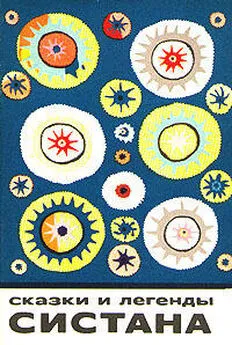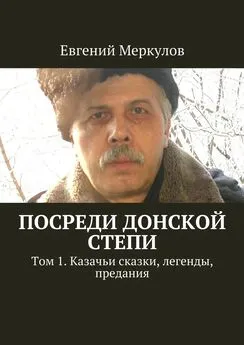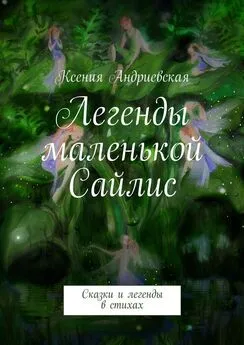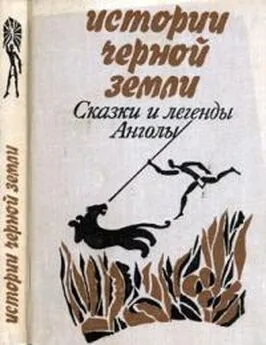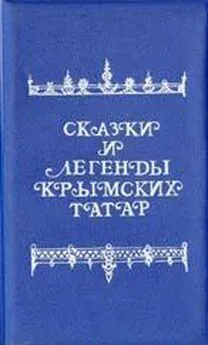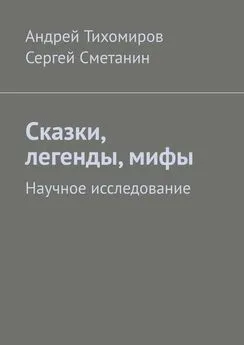Андрей Чудояков - Шорские сказки и легенды
- Название:Шорские сказки и легенды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО РИФ «Весть»
- Год:2002
- Город:Кемерово
- ISBN:5-94306-116-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Чудояков - Шорские сказки и легенды краткое содержание
Шорские сказки и легенды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Социальная проблематика особенно заострена в социально-бытовых сказках, в которых социально-классовое деление на богатых и бедных есть одновременно и деление соответственно на злых, жадных и добрых, справедливых, на глупых и умных. Строится такой ряд внутренних качеств героев: если богатый, то значит — злой, жадный, даже алчный, несусветно глупый при этом; если бедный, то значит — добрый, справедливый, даже в своей мести, необыкновенно умный, сметливый, находчивый, хитроумный при этом.
Необходимо отметить важнейший приём создания образов в фольклоре — гиперболу, т. е. художественно значимое преувеличение качеств и действий. Этот приём проистекает из мифа, ведь мифические персонажи должны всё делать не как люди, не так как в реальности может быть. Затем гипербола перешла по наследству к образу алыпа-богатыря, превратившись в художественный приём, подчёркивающий его богатырство. Она обошла героя волшебной сказки, так как в них гипербола заменяется волшебством, исходящим либо от помощников, либо от волшебных предметов. В социально-бытовой сказке гипербола снова возобновляется. Здесь преувеличение касается не внешних качеств, как в образах алыпов-богатырей, а внутренних, при этом особенно преувеличивается, почти абсолютизируется глупость отрицательных персонажей: например, Куюрчи, который, поверив Аргачи, сжигает свой дом, а пепел от дома несёт Каратты-каану, чтобы тот поменял пепел и угли на золото и серебро, потом, убив своего быка, несёт тушу, чтобы каан поменял его на живого быка из его собственного стада, потом позволил себя сжечь, поверив Аргачи, что таким образом он может на небесах встретиться со своим отцом, который его щедро одарит, как одарил Аргачи его собственный отец («Аргачи и Куюрчи»). А положительные герои наделяются гиперболически преувеличенным умом, сметливостью, мудростью, некорыстной хитростью (например, Пчёлка в сказке «Пчёлка», Аргачи в «Аргачи и Куюрчи», Аргынак в сказке «Хитрый Аргынак»).
В сказаниях и сказках также запечатлелись и исторические этапы становления фольклорного эпического слова, стадии преодоления мифического сознания, что схематично можно представить так:
1. миф повествовал лишь о Богах и других мифических существах, человек же был второстепенным и страдательным существом, или вовсе не упоминался;
2. героическое сказание стало повествовать уже о человеке, который приравнивался к Богам тем, что обладал исключительными качествами (сила, обострённое чувство справедливости и др.), или был Богами в буквальном смысле сотворен (богатыри иногда — первые люди на земле, и часто рождаются не естественным способом, а чудесно) и прямо, непосредственно поддерживался ими (имянаречение от Бога, посылка чудесного коня с необходимым вооружением воина, и др.), чаще — опосредованно (через помощников, которые обладают мифической силой, и через волшебные предметы) [5] см: Чудояков А.И. Этюды шорского эпоса. Кемерово. Кн. изд-во, 1995. -Стр. 146–160.
;
3. а. сказка (волшебная) стала повествовать о человеке без исключительных качеств, о простом человеке, хотя поддержка Богов продолжает оставаться, поддержка уже не прямая, а опосредованная (через того или иного помощника, которые уже не обладают мифической силой, и вся их чудесная сила заключена часто только в волшебных предметах).
б. А в социально-бытовых сказках поддержка Богов почти вовсе отсутствует, человек уже сам распоряжается своей судьбой, что даёт ему стимул для собственной активности.
Таким образом фольклорное повествование постепенно, поэтапно (миф — героическое сказание — волшебная сказка — социально-бытовая сказка) приближается к той действительности (т. е. к собственно реальному человеку, его внутреннему и внешнему миру), которую, как словесное искусство, оно призвано отображать сквозь призму этико-эстетической оценки.
Важнейшим мотивом, отправляющим героя сказания и волшебной сказки в путь, является поиск суженой. В том, где герой находит свою жену, волшебная сказка существенно отличается от героического сказания. Брак в сказке не является ни экзогамным, ни эндогамным. Г ерой сказки добывает жену в каком-то ином мире («Алтын-Тарак или Птица счастья», «Волшебная книга», «Чагыс — Одинокий парень», «Несчастливец Неккер», «Охотник Панюгеш»), а не в другом племени, как это делают алыпы-богатыри по предсказанию Творца, или матери, или сестры, или — по книге судьбы. Этот иной мир суженой героя волшебной сказки можно соотнести с Верхним миром, поскольку будущая жена часто является помощницей героя и имеет отношение к волшебным предметам. Следовательно, речь здесь идёт о принципиально новом взгляде на то, какая должна быть семья, закладываются новые основы семьи. Семья здесь — брак Среднего (герой) и Верхнего (суженая) миров. А брак только между представителями Среднего мира оборачивается острыми противоречиями внутри семьи, о чём говорится в сказках: конфликты, когда появляется гонимый брат — младший («Алыг Анчи — Глупый охотник»), старший («Уш-Карак») или вообще нет семьи («Чагыс — Одинокий парень», «Подур Пакен»). Сказка выступает против неравенства между членами семьи, за восстановление попранных прав гонимого, утверждая, что униженный является точно таким же, как его «умные» братья.
Ещё хотелось бы сказать о роли женщины в сказках. Женщина в героических сказаниях обязательно связана либо с Верхним, либо с Нижним мирами, она помощница или противница богатыря. Отсюда и её способность предвидения, умение предсказать события, дар перевоплощаться в другого (в богатыря, в птицу) и т. п. В волшебных же сказках женщина сохраняет связь только с Верхним миром, способности её теперь исходят только от волшебного предмета, а поскольку она является помощницей героя, то мужчина (герой) полностью в её власти, она им руководит, утешает, приходит к нему на помощь. В социально-бытовой сказке женщина, наоборот, полностью во власти мужчины, редким исключением служит сказка «Ойла и Мукалай» — сказка, насыщенная комизмом, основанным на алогизме. Но всегда с женщиной связан мотив любви и верности суженому, почитания и возвеличивания мужчины, ради любимого, отца или брата она идёт на всё, использует все свои большие способности, тогда как для мужчины в сказаниях любовь — не главное, важнее — долг перед Ульгеном, родом и народом (продолжение рода, защита народа, месть за отца и возвращение ограбленного имущества и др.). Есть сказания, в которых у героя несколько жён, каждая из которых считает себя суженой богатыря и жёны взаимоуважают чувства друг друга (например, сказание «Алтын Сом»). Особенной чувственной активности (конечно, в пределах возможности жанра) женщина достигает в волшебных сказках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: