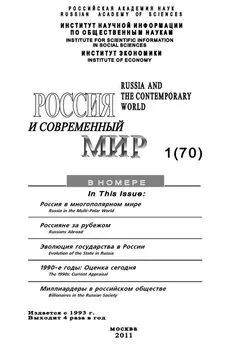Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1/2011
- Название:Россия и современный мир №1/2011
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:2011-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1/2011 краткое содержание
Ключевые рубрики
Россия и современный мир №1/2011 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
СОТРУДНИЧЕСТВО «ПОВЕРХ ГРАНИЦ»: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Анализ регионального политического дискурса – одна из наиболее актуальных тем отечественной политологии. Сегодня (последние четыре-пять лет) Дальний Восток внезапно стал осознаваться, как наиболее проблемный федеральный округ. Коммуникация между центральным и местным политическим сообществом превратилась в серию уголовных дел в отношении региональных и федеральных чиновников высокого уровня. Местные газеты запестрели статьями о «гибели» региональной экономики, а уровень миграционной и протестной готовности населения постоянно возрастает.
Для того чтобы обнаружить причины нарушения «понимания» между населением региона и действиями руководства страны, объяснить некоторые видимые черты политической жизни региона, попытаемся описать мифы о Дальнем Востоке в системе социальных представлений жителей западной (европейской) части страны в сопоставлении с «мифами» самих дальне-восточников.
В нашем понимании политический миф, как и миф вообще, есть не ложное или ошибочное знание, но знание, не нуждающееся в проверке и потому не подвергающееся ей. Миф предстает истиной просто потому, что он миф. В этом своем качестве он не нуждается в подтверждении чем-либо, кроме себя самого. Его наличие детерминирует отбор фактов, концепций и т.д. в научном и политическом дискурсе. Точнее, любая наличная реалия интерпретируется в мифологических формах.
Иными словами, миф – это организующее коммуникацию коллективное знание, которое обеспечивает совмещение «когнитивных горизонтов» членов группы. Индивидуальные «возможные миры» соединяются в мифе в единую интерсубъективную реальность. Миф представляет собой сложный и целостный смысловой комплекс. Появление одного (демонстрируемого) элемента активизирует в сознании членов группы весь комплекс. Происходит предвосхищение целого через часть. Существование такой целостности создает базу для отделения «своего» пространства от «чужого», объединяет разнородные элементы в общую сверхсхему, на базе которой и конструируется реальность.
Политический миф выступает в роли «несущей конструкции», задающей параметры отграничения «своего» пространства от чужого, друга от врага. Выйдя «за миф», человек попадает в другое мифологическое пространство. Его действия перестают коррелировать с действиями членов прежней группы. Он оказывается в положении чужака. Более того, осмысленные прежде коллективные действия лишаются для него всякой логики, ибо логика этих действий основана на мифе. В результате он утрачивает возможность не только «управлять» (как политик), но и понимать происходящее (как ученый). Наличие же общей или сводимой к некоторому общему знаменателю системы представлений автоматически делает коммуниканта «своим», а транслируемую им информацию наделяет изначально высоким доверием. Для того чтобы, находясь в рамках иной мифологической системы, организовать коммуникацию с данной, необходима «сверхсистема», снимающая межсистемные противоречия. Однако само ее наличие далеко не всегда оказывается фактом. Особенно остро переживается ситуация, когда отсутствие общей системы мифологических представлений обнаруживается у частей одного политического целого.
Что же происходит, когда действия управляющих базируется на ином мифологическом основании, нежели действия управляемых? В этом случае они, не встречая понимания управляемых, теряют доверие. Действия центра, исходящие из «внешних» представлений о регионе и не стремящихся включить (или подавить) внутренние представления, не могут быть адекватно осмысленны социальным сообществом региона, а значит – отторгаются. «Мы» управляемых локализуется в регионе (дальневосточники). Государство же начинает восприниматься как «они» («Москва», «запад»). Этому никак не противоречит непременное осознание себя дальневосточником как гражданина России прежде всего 2 2 . В ходе опроса в более чем 90 % случаев самоидентификация «гражданин России» была первой, а региональная идентификация (дальневосточник) – второй. Опрос проведен под руководством автора в 2008 г. в Хабаровском крае (выборка квотно-территориальная, генеральная совокупность – население Хабаровского края старше 18 лет, n = 879). Результаты сравнивались с результатами мониторинга социального самочувствия населения 1999–2009 гг., проводимого DBR – центром под руководством И.Ф. Ярулина.
. В этом контексте действия «их», «Москвы», «Запада» оказываются «внешними» по отношению не только к Дальнему Востоку, но и к России. Эти действия, направленные на «настоящих граждан России» – дальневосточников, начинают восприниматься в сознании управляемых (жителей региона) как немотивированное структурное насилие, систематическое вторжение государства в приватную, а потому номинально недоступную для государства сферу жизни человека.
Осуществляемое государством вторжение в приватную сферу начинает осознаваться как нелегитимное. Формируется то, что М. Олсон называет «негативным социальным капиталом» (12, с. 127). Государство перестает быть инструментом социальной интеграции, во всяком случае перестает осознаваться в таком качестве. Напротив, как показал А.Ф. Филиппов на материале анализа концепции К. Шмитта, политическое вторжение в этом случае разрушает социальную ткань общества, выступает сильнейшим дезинтегратором (19, с. 129).
Начиная со второй половины 90-х годов ХХ в. связь между Дальним Востоком и европейской частью России становится все более призрачной. В ходе опросов, проводимых в 1997–1999 гг. менее 5 % респондентов указали, что в последние годы бывали в столице, менее 15 % респондентов отметили, что регулярно следят за общероссийскими новостями. Существенно и то, что в тот период доступ к сети Интернет, несколько компенсирующий удаленность, имели 5,6 % респондентов. Но примерно таков же был уровень информированности и интереса столичного населения и центральной власти к региону. В сложных политических процессах конца ХХ столетия места Дальнему Востоку просто не находилось, поскольку его электоральный вес был ничтожен, а «работа» с ним затруднена удаленностью и разорванностью коммуникаций. От местной власти требовалось лишь внешнее выражение лояльности и самостоятельное решение внутрирегиональных проблем (проблем субъекта Федерации).
Система политических мифов в этих условиях явно разделялась на мифы «для внутреннего» и «для внешнего» применения. К первым относились мифы, связанные с ограблением региона, противопоставлением «Москве» и «китайцам». За счет них создавалась региональная идентичность и возможность мобилизации населения, обозначенная нами как «катастрофическая мобилизация». Они же давали губернаторскому корпусу безусловную поддержку электората в качестве защитников и посредников между Дальним Востоком и «Москвой». Для «внешнего применения» использовались образы «богатого региона», «форпоста», связанного с сохранением территориальной целостности страны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: