Мария Чернышева - Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма
- Название:Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:С.-Петербургский государственный университет
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-05511-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Чернышева - Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма краткое содержание
Для облечения работы с учебным пособием введена подробная рубрикация его частей, цитаты из философских трудов и исторических источников выделены особым шрифтом. Издание включает именной указатель.
Книга адресована студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется историей и теорией искусства.
Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На Западе варваризация на несколько веков заглушила античное влияние. Первая волна интереса к античности поднимается здесь во второй половине VIII в. во франкской империи Карла Великого, которую он мыслил как обновление Римской империи. Потом, до начала Ренессанса в Италии, открывшего новый период в общеевропейской истории, в разных областях Европы происходят разные сближения с античностью – ренессансы с маленькой буквы. В искусстве эти сближения осуществляются как через собственно античные источники, так в значительной степени (а порой и в основном) через классицизирующие византийские образцы.
Однако задолго до завоевания Константинополя турками в 1453 г. у искусства Западной Европы развились сильные преимущества перед византийским в наследовании античности.
Статус изображения в Западной Европе. Во-первых, преимуществом оказалось то, что раньше было проигрышем – опыт отчуждения от классической культуры. Этот опыт со временем – в эпоху Возрождения – позволил европейскому искусству, лишенному византийской инерционной связи с античностью, более заинтересованно и глубоко постичь ее со стороны, встретившись с ней на равных; [44] Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 2006. С. 103– 104, 122.
приобщиться к ней не только через заимствование готовых художественных мотивов, но и через самостоятельное восстановление ценностей и воссоздание порождающих законов классического искусства.
Во-вторых, преимуществом было то, что западная церковь не переняла порожденное византийской традицией богословие иконы и с осторожностью относилась к феномену чудотворной иконы. В Западной Европе образ стал прежде всего «библией для неграмотных» и картиной. Такая концепция изображения в отличие от концепции византийской не противостояла аристотелевской и не мешала тому, чтобы искусство в перспективе вновь стало миметическим и по форме, и по смыслу.
Каролингские книги. Когда Второй Никейский Собор (также известный как Седьмой Вселенский Собор), созванный византийской церковью в 787 г. против иконоборчества, принял догмат об иконопочитании, Карл Великий велел франкской церкви опровергнуть постановления Собора, с которыми ознакомился по латинскому переводу, не передавшему некоторых терминологических тонкостей греческого оригинала. Это опровержение, составленное около 790 г., получило название «Каролингские книги» и приписывается Теодульфу, епискому Орлеанскому.
Каролингские теологи отклоняют как разрушение икон (в этом поддерживая Византию), так и поклонение иконам: «Мы довольны сочинениями пророков, евангелистов и апостолов, следуем указаниям св. православных отцов церкви… и признаем авторитет шести вселенских соборов, но отвергаем все новые языковые упорядочивания и безрассудные выдумки… как тот синод, который из-за непристойной традиции почитания икон заседал в Вифинии и документы которого лишены всякого… смысла ‹…› образы нельзя приравнивать к реликвиям мучеников и исповедников… ибо эти происходят от тела и были в соприкосновении с телом… и они воскреснут в величии… вместе со святыми в конце века… образы же получаются в зависимости от разумения искусства и от искусности художника один раз прекрасными, другой раз скверными и состоят из нечистой материи. они ни жили, ни воскреснут, а, как извест но, либо сгорят, либо разрушатся ‹…› [В Библии] не говорится ни слова о том, что иконы подобное [чудеса] совершали. Либо эти чудеса основаны на лжи и обмане, а именно исходят от сатаны, либо они совершаются самим Богом лишь над вещами, а не самими вещами ‹…› Мы ведь отклоняем не что иное, как почитание образов… и допускаем образы в церквах для напоминания о благих делах и для украшения стен… Греки почитают стены и живописные доски… Правда, некоторые знатоки могут избежать почитания… того, что является образом, и почитать то, что эти образы представляют. тем не менее образы создают для необразованных неприятность, т. к. эти почитают лишь то, что они видят ‹…› [Покажите изображения двух красивых женщин и скажите, что на одном – Дева Мария, а на другом – Венера.] оба… изображения совершенно одинаковы и различаются только благодаря надписи [которую художник по желанию добавил], которая их, однако, не может сделать ни святыми, ни недостойными». [45] Цит. по: Бельтинг Х. Образ и культ… С. 592–593.
Как видим, согласно богословам Карла Великого, изображения – это материальные объекты, зависящие от мастерства художника; ничего сверхъестественного нет ни в их происхождении, ни в их воздействии. Но это не является аргументом против изображений божественного – вопреки мнению иконоборцев. Ибо художественные произведения сами по себе не могут быть ни священными, ни святотатственными.
Тезисы о том, что изображения выполняют напоминающую, поучающую («библия для неграмотных»), а также просто декоративную функции, высказывались и ранее как византийскими, так и западными богословами. Главное, что отличает трактовку образа в «Каролингских книгах» и что звучит с опережающей время новизной и решительностью, это моральный нейтралитет по отношению к изображениям, который был неприемлем как для иконопочитателей, так и для иконоборцев. [46] Безансон А. Запретный образ… С. 166.
Расколдованные изображения. После окончательного раскола христианской церкви в 1054 г. на Римско-католическую и Православную, в католицизме важным для судьбы искусства документом стал догмат о пресуществлении, принятый в 1215 г. на IV Латеранском соборе. Это догмат о том, что конкретно и телесно Христос присутствует только во время таинства евхаристии в облатке и вине при произнесении священником слов Христа: «приимите, ядите: сие еть тело Мое» (Мт. 26:26). Иным изображениям Христа, даже если они освящены, окончательно отказано в магической способности обеспечивать его реальное присутствие.
Догмат о пресуществлении с рациональным спокойствием поставил вопрос об изображении божественного вне богословских теорий и споров и отделил изображение от магии, как языческой, так и христианской, признал его самостоятельные и как следствие самозаконные основания.
Расколдованное изображение не рассталось с задачей показывать священные персонажи и события так, чтобы волновать, воспитывать и возвышать души. Но теперь с этой трудной задачей ему пришлось справляться без помощи магии, только художественными средствами и приемами. Искусство неизбежно должно было осознать и раскрыть свой потенциал, который исконно включал важную миметическую составляющую. К тому же похожие образы, приближенные к природной и человеческой реальности, обладали силой более непосредственного воздействия и были доступны более широкой и пестрой в сословно-культурном отношении публике, чем, например, образы отвлеченно-символические.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



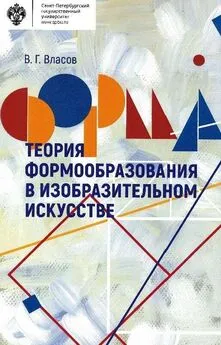

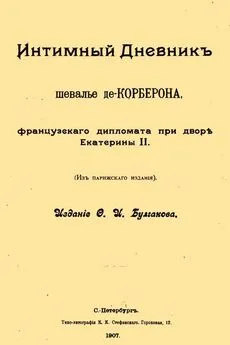
![Мария Чернышева - Вкус черешни [СИ]](/books/1090387/mariya-chernysheva-vkus-chereshni-si.webp)
![Мария Чернышева - Ведьма [СИ]](/books/1090388/mariya-chernysheva-vedma-si.webp)
![Мария Чернышева - Черный рассвет [СИ]](/books/1090389/mariya-chernysheva-chernyj-rassvet-si.webp)
![Мария Чернышева - Аврор [СИ]](/books/1090390/mariya-chernysheva-avror-si.webp)