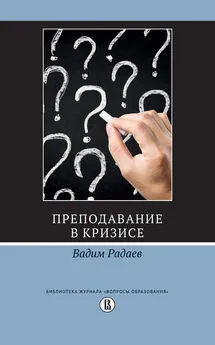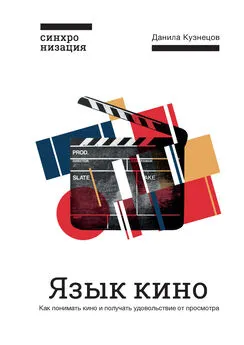Вадим Радаев - Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков
- Название:Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2249-3, 978-5-7598-2363-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Радаев - Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков краткое содержание
Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Борьба без веры
В этом кругу считается правильным тоном участвовать в гражданской и политической активности. Говорятся все правильные слова, делаются правильные поступки. Но выглядит все это не слишком зажигательно. Наблюдаем вялое подписывание писем в защиту Михаила Ходорковского под явным групповым давлением («я надеюсь, ты уже подписала»). Это превращается в тихую манию, когда начинают подписывать коллективные письма против тех, кто отказался подписать коллективные письма.
Под тем же внутригрупповым давлением они дружно всем коллективом выходят на очередной митинг. Но и здесь горения не видно и, судя по всему, особой веры нет. Сохраняется традиция противостояния власти (и в институте, и в стране в целом) как остаточный элемент групповой самоидентификации, это традиционное для русской интеллигенции «отщепенство от государства» (словами П.Б. Струве). Подобные устремления устойчивы, но не слишком глубоки, в них слишком много чисто ритуального. Характерны слова одного из героев: «Нам придется немного пострадать».
Попутно возникает вопрос: если все вышли на улицу по сильному идейному устремлению, то почему главная героиня Лиза так легко позволяет бывшему и нелюбимому мужу увести себя при приближении ОМОНа и делает это без какого-либо сопротивления (могла ведь остаться). И уходит она не потому, что боится пострадать, а потому, что политическое чувство неглубоко. И потому, что ее переживания остаются в другой, более личной плоскости.
Иной (религиозной) веры тоже не видно, по всей видимости, все наши герои атеисты и от религиозных пут вовремя освободились. В итоге былой «воинствующий монах» (по выражению С.Л. Франка) превратился в обыкновенного монаха со всей его отрешенностью от реальной жизни и аскезой – как материальной, так и духовной. Правда, последующие за выходом фильма годы показали, что «монах» не утратил полностью своей воинственности. Ничто не уходит окончательно…
Хочется кого-то спасти
Интеллигенты в целом приспособились к своей жизни, но отчего-то мучаются. Периодически хочется чего-то, как-то неймется. Нет точки опоры, чтобы можно было перевернуть этот мир. А перевернуть все же хочется хотя бы что-нибудь.
Отсюда периодические всплески альтруизма. Хочется нести добро, совершать какие-то благородные поступки, оправдать свое высокое предназначение. Например, наша героиня подключается к помощи детскому дому. Помощь оказывается по графику, раз в месяц, 25-го числа. И все в итоге превращается в благородный спектакль на тему «А приятно быть хорошим человеком». Заведующая детдомом, разумеется, подыгрывает (и переигрывает даже), и все это понимают. На выручку приходит спасительная самоирония. Но понимание некоторой искусственности всей ситуации, увы, сохраняется.
Хочется сделать что-то значимое – для других и в первую очередь для себя. Но что именно? Нет ни идей, ни перспективы. И вскоре начинается самоедство, разного рода самокопание и саморазрушение. Все не так и не эдак.
Если не находится опоры в самом себе, начинается поиск этой опоры где-то вовне. И когда выпадает шанс совершить благородный поступок – помочь совершенно незнакомому человеку, который тебе вдобавок чужд и несимпатичен, ты хватаешься за этот шанс. Ведь так хочется кого-нибудь спасти, буквально как у героя романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». А еще хочется кого-то приручить и быть за кого-нибудь в ответе. Стать Пигмалионом и сотворить свою Галатею. Быть цивилизатором, просветителем, самим Спасителем наконец. В этом отношении характерна пересказанная история про алеута, больного туберкулезом (буквальное воплощение дикости), которого главная героиня притащила к себе домой и лечила четыре месяца, буквально «задушив его своей добротой». В результате такого лечения алеут ушел в жестокий запой и в ужасе сбежал, да так, что больше его не смогли найти.
Сохраняется желание выйти за рамки музейной этнографии – не просто наблюдать и созерцать, а заняться миссионерством. Желание пойти в народ, понять его, соединиться с ним. Возникают искренние романтические порывы (важны все три слова). Искренность порождает серьезные увлечения предметом собственной заботы. Романтизм проявляется в нежелании видеть препятствия и недостатки избранного предмета. И все это совершается резкими порывами – ярко вспыхивает, но скоро затухает.
Подобное поведение отнюдь не ново, об особенностях русской интеллигенции уже все написано более столетия назад. И, на мой взгляд, одно из лучших описаний было дано в уже цитированной нами ранее статье С.Л. Франка «Этика нигилизма» в прославленном сборнике «Вехи», который подметил, что интеллигента «влечет идеал простой, бесхитростной, убогой и невинной жизни; Иванушка-дурачок, “блаженненький”…» [54] Франк С.Л . Этика нигилизма. С. 104.
.
Одни философы прошлого предлагали «подражать мужику», ограничиваясь при этом сугубо идеальной стороной и практически с ним не сближаясь [55] Леонтьев К.Н . Как надо понимать сближение с народом? М.: Типография Е.И. Погодиной, 1881. http://knleontiev.narod.ru/texts/sblijenie_s_narodom.htm
. Другие были одержимы идеями просвещения и служения народу, которые органично сочетались с непониманием и презрением к этому же народу. Переобувание из славянофилов в западники (и обратно) здесь ничего, в сущности, не меняло. Один вид прожектерства сменялся другим – вместо реального дела.
Хочется понять и спасти народ – не таким, каков он есть, а каким мы его изволили понимать, не прекращая считать его Быдлом. Хотя это слово в фильме вроде бы не звучит, оно подразумевается и замещается словом «хабалка». А есть еще более модное интеллигентненькое слово «плебс».
И сегодня, несмотря на столь множественные изменения, мы продолжаем видеть прямую перекличку с народничеством XIX столетия с его неизбывным желанием служения народу («мы перед ними виноваты»). Впрочем, и эти порывы – как ветер – то поднимаются, то затухают.
Жажда витальной силы
За устремлением к миссионерству скрывается поиск внешней опоры, которую человек не в состоянии найти в самом себе. За помощью обездоленным таится забота о себе любимом и безнадежная попытка чем-то (кем-то) всерьез увлечься. Интеллигентной Лизе только кажется, что простоватой Вике нужна помощь и поддержка. Помощь нужна именно ей самой. Лиза понимает всю чудовищность и вульгарность своей подопечной. Но при этом невольно завидует тому, что она не думает и никак не мучается, а просто живет.
В этой образованной и цивилизованной среде заметно ощущается жажда живого (первобытного) огня. Такой огонь есть в провинциалке Вике, пусть он и горит как-то беспорядочно и бессмысленно. Она не задается «лишними» вопросами, здесь нет никакой обременительной рефлексии. Она растет, как трава, которая кажется слабой и неприспособленной, но на деле способна выживать в любых условиях, пробиваясь сквозь асфальт. Провинциалка «ничего не боится», быстро обучается, пусть и по самой поверхности, тренируется произносить слова, угадывать чужие знаки. Ее профессиональное и личностное несоответствие ситуации кажется очевидным и непреодолимым, но она быстро находит себе работу арт-директора, причем находит именно сама (!) без всякой протекции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


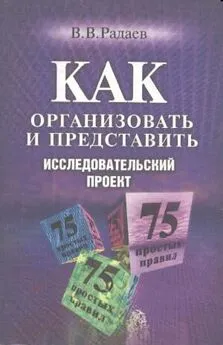
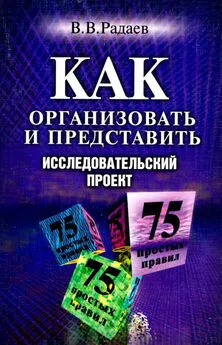


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/1083613/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol.webp)