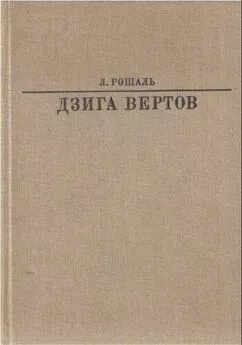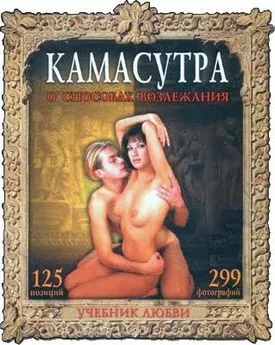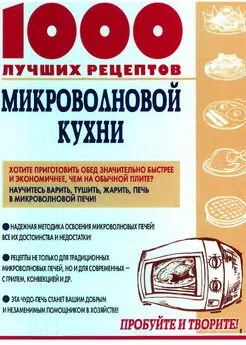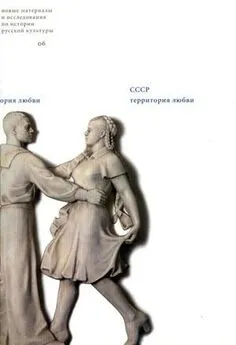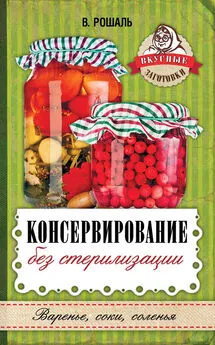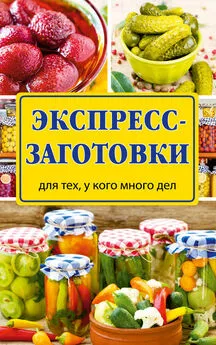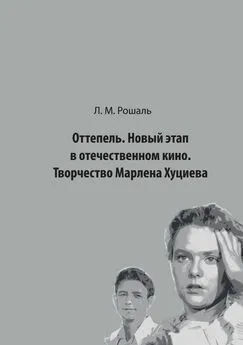Лев Рошаль - Дзига Вертов
- Название:Дзига Вертов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Рошаль - Дзига Вертов краткое содержание
Книга посвящена выдающемуся советскому кинорежиссеру, создателю фильмов «Ленинская Кино-Правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине» и др., ставших классикой мирового киноискусства, оказавших огромное влияние не только на развитие отечественной кинопублицистики, но и на весь процесс формирования мирового киноискусства. Жизнь и творчество Вертова исследуются автором на широком историческом фоне.
Дзига Вертов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Значит, для того, чтобы обнажить мысль, сделать невидимое видимым, киносъемка не должна сводиться лишь к имитации обычного зрения, к повторению на экране того, что можно увидеть обычным глазом.
Надо искать способы, которые позволяли бы воспроизвести то, что глаз обычный увидеть не может и что может увидеть глаз, вооруженный киноаппаратом.
Дело не в рапиде.
В дальнейшем он станет для Вертова лишь одним (и далеко не первым) средством выявления правды.
Эти средства будут постепенно усложняться, становиться все более утонченными. Закономерность их применения будет находить для себя все более глубокое теоретическое обоснование.
Но цель останется та же, что и тогда, когда Вертов решил (скорее всего, стихийно) совершить прыжок с грота, почувствовав сразу после просмотра отснятого (скорее всего, в тот момент еще интуитивно) разницу между существующей практикой кино и его нераскрепощенными возможностями.
— Мой рапидный прыжок, — говорил Вертов через семнадцать лет, — где я устанавливаю разницу между тем, что вы видите, и тем, что во мне происходит, это опыт, который в более сложном виде повторяется во всех фильмах, которые я сделал.
К тому времени (1935) год) он уже сделал почти все фильмы, которые сделал, включая «Три песни о Ленине».
Поэтому-то от прыжка с грота и берет начало его дорога.
Обычная киносъемка необычайно расширила зрение миллионов людей, сделав доступным глазу любую точку планеты.
Рапидный опыт Вертова заставил его задуматься над необходимостью не расширения, а углубления зрения широчайших масс. Это углубление предполагало неизбежность преодоления не ограниченных мобильных возможностей человека, а ограниченных возможностей самого зрения.
И в свою очередь требовало всемерного раскрепощения еще не раскрепощенных возможностей кино.
А когда же их раскрепощать, как не в эпоху, провозгласившую раскрепощение всех творческих сил народа, как не в эпоху пролетарской революции?..
Киноки — дети Октября.
В дорогу Вертова позвало время.
Время, время, время…
С первых шагов в кино само это понятие волновало Вертова. Оно волновало его своей многослойностью.
Время как ритмическая единица, как метр будущего киностиха.
Причем «метр» здесь не только в переносном смысле слова (стихотворный размер, чередование разнодлительных долей), но и в самом прямом — как отрезки пленки, отмеренные линейкой и нарезанные ножницами. Стихотворный метр, зависящий от сантиметра. Тот самый «метр», который так удивил монтажниц, не пожелавших склеивать «кусочки» в 5, 10, 15 кадриков для киноленты «Бой под Царицыным».
Впрочем, удивились тогда не только монтажницы, но и члены Художественного совета, отрицательно встретившие необычайно быструю картину.
Мысль о временных ритмах, их значении в искусстве не оставляла Вертова.
Приехав в Москву, он подружился с молодым кинооператором Александром Лембергом. Не имея постоянного жилья, Вертов поселился у Лембергов в Козицком переулке.
Лемберг вспоминал, что, вернувшись как-то из очередной командировки, он не узнал комнаты, в которой жил в то время Вертов. Все стены и потолок Вертов окрасил густой черной сажей, кругом была беспросветная тьма. А на черных стенах белой краской Вертов нарисовал множество часов со стрелками, показывающими разное время, и с маятниками, находящимися в разных положениях, — они как бы раскачивались.
Лемберг откровенно пишет, что все это ему не понравилось.
Вертов стал его убеждать, что он ничего не понимает, черный цвет создает впечатление дали во все стороны, комната стала шедевром.
И добавил:
— А циферблаты на стенах — это стихи!
Стихами были, конечно, не циферблаты, а заложенный в их изображение ритм, без которого нет поэзии.
Лемберг не стал спорить. Но когда Вертов уехал в очередную командировку, позвал маляров, вернувших комнате нормальный вид.
Возвратившийся из командировки Вертов огорчился, а потом, как вспоминает Лемберг, сказал:
— Да, пожалуй, ты прав…
Есть вещи, которые трудно объяснить.
Ритм — это то, что живет внутри человека. Это, в сущности, настрой его души.
Как объясниться здесь языком обыденной логики?
Но прав все-таки, пожалуй, был Вертов.
И все-таки самым волнующим в этом понятии «время» был не порядковый отсчет секунд, минут, дней, не ритм, выражаемый метрической длиной пленочного отрезка, а нечто еще более важное.
Время — как эпоха, история.
Творчество Вертова было неразрывно связано с Октябрем не только потому, что послеоктябрьская эпоха предоставила ему возможности для осуществления своих личных художественных намерений, но и потому, что осуществление намерений давало возможность отразить послеоктябрьскую эпоху.
Этим он ясно и недвусмысленно выражал свою социальную, политическую позицию.
Позицию гражданина Республики.
Но не только позиция Вертова — позиции самого документального кинематографа в борьбе за революционное сознание широких масс были столь выдвинуты вперед, что всякое подспудное лукавство здесь оказывалось не только невозможным, но просто бессмысленным.
Эйзенштейновские слова о себе: «Через революцию к искусству — через искусство к революции» относимы к большинству пришедших в эти послеоктябрьские годы в кино.
Свой протест против эстетических канонов в кинематографе Вертов всегда будет рассматривать как форму непосредственного участия в революционной борьбе против старого общества. А поиск новых путей искусства для него станет частью общего строительства нового мира.
В некоторых статьях, написанных и при жизни Вертова и после его смерти, можно встретить то более откровенный, то относительно слабый (но все же имеющий место) намек на то, что неточности, ошибки его ранних теоретических выступлений являются следствием его как бы еще не определившейся в те годы полностью социальной позиции.
Между тем свою социальную, политическую позицию Вертов определил полностью сразу и до конца.
Но разве понимание и признание конечных целей социальной революции должно автоматически приводить к немедленному и всеобщему пониманию революции, происходящей в искусстве, и новаторских путей, ведущих к ней?
Если б это было так, то многое решалось бы очень просто.
— При общности великой цели — у каждого художника свой особый путь, — говорил Вертов.
Особый путь художника тем и отличается, что не похож на другие, ставшие привычными.
А ведь ничего нет труднее, чем расставаться с привычками.
Потому что привычно то, что когда-то нам было по-настоящему любо и дорого, а теперь, может быть, тоже любо и дорого, но не по-настоящему, а больше по привычке. Мы только этого не замечаем (или не признаем).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: