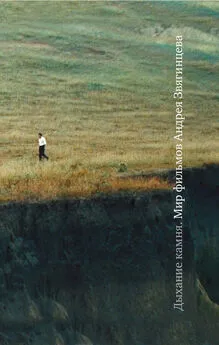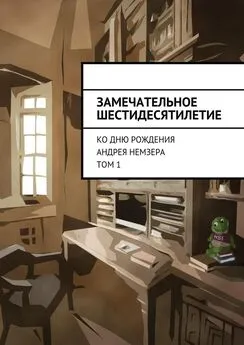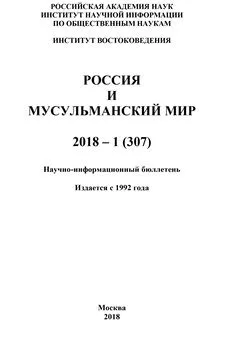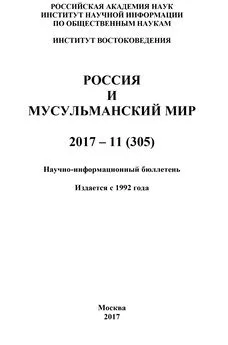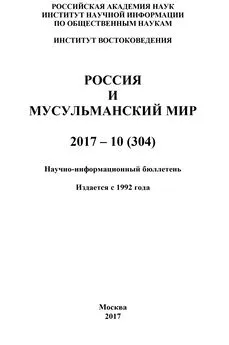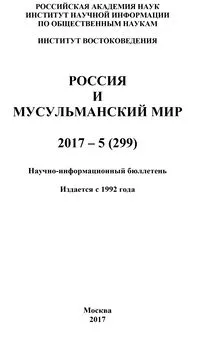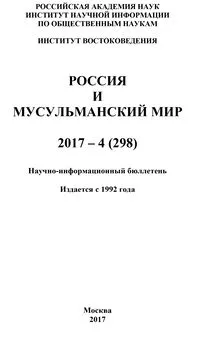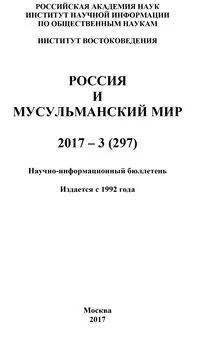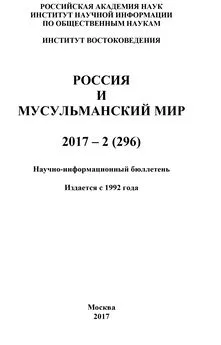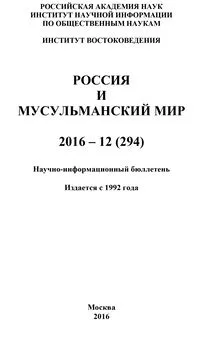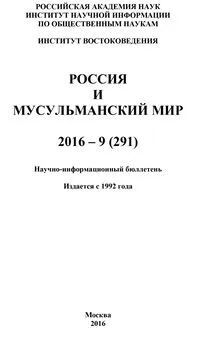Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Название:Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0396-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева краткое содержание
Настоящий сборник – первая попытка начать серьезный разговор об особой кинематографической эстетике фильмов Андрея Звягинцева. Здесь представлены работы критиков и эстетиков кино, аспирантов вузов, посвященные анализу фильмов режиссера, материалы мастер-класса, проведенного Звягинцевым в киноклубе “АРТкино” в сентябре 2007 года, а также интервью с участниками творческого коллектива, специально подготовленные для этого сборника, и другие материалы.
Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я пытался эксперименты в духе Антониони прививать в театре, но там эти идеи не проходят. Вот на такой, как эта, крошечной сцене, в таком камерном пространстве что-то еще возможно, да и то нужно дождаться зрителя, который согласен будет на это смотреть. Это, конечно, очень грубое сравнение, психотерапевтический скорее термин: экстраверт и интроверт. Но интровертное существование мне ближе. И такие задачи я перед актерами ставлю. Что такое выразительность актера? Представьте себе: луг, трава. Огромное поле травы. Где-то там, в середине этого поля, несколько цветков. Они такие красивые: тычинки, пестики, лепестки. Они так качаются на ветру… Вот это примерно то, что являет собой актерская природа. Актер – это человек, который ищет внимания. И если у него нет этого свойства, то он не сможет быть на сцене. Он попросту никогда там не окажется – понимаете, о чем я говорю? Это человек, который ищет выразительности и настаивает на ней. Так вот, актерская выразительность подобна этим цветам, а вот трава… Следует обладать мужеством, чтобы отказаться от выразительности и стать травой, стать как бы всеми.
Разумеется, это всего лишь идеальная модель, потому что в абсолюте достичь этого нереально. По мне, лучше бы избавиться от привычной выразительности. И в этом смысле я опираюсь на метод, что ли, или на открытие Робера Брессона, на то, чего он искал в актерах. И даже то, как он их для себя называл, говорит само за себя. Он их именовал “моделями”, по сути – “функцией”; как с пейзажем или с объектом, который выбираешь для съемки, так ты поступаешь и с актерами. И в этом нет ничего унизительного для актера: напротив, он как бы представляет собой лицо человечества в этой картине мира, он словно бы делегирован миром представлять его нынешний лик. Я только совсем недавно посмотрел последний фильм Брессона “Деньги”. В этой картине он довел, по-моему, до совершенства свой метод. Ну, вообще нет ничего! Совсем! Никакой вовлеченности, привычной нам страстности или сентиментальности, никакого чувства! Лица почти никак не выражают своих эмоций, никак. Это, конечно, смелый ход и зачаровывающий. Да и все остальные его фильмы – это его длинный путь к методу. “Приговоренный к смерти бежал” и более поздние фильмы: “Мушетт”, “Вероятно, дьявол”, “Наудачу, Бальтазар”. Брессон иногда даже лицо уже не показывает, в кадре часть тела: просто рука, открывающая дверь, – постоянный рефрен фильма “Кроткая”.
Отказать актеру в выразительности, убедить его в том, что это верный путь, – очень непросто. Вот с Сашей Балуевым… Вы уже посмотрели “Изгнание”? Я очень боялся его брать, потому что куда уж более растиражированный образ! Но тем не менее после полугодовых поисков актеров я понял, что по пути “Возвращения” уже пройти не удастся. В “Возвращении” я себе поставил задачу найти актеров, которых никто не знает. Принцип, из которого я исходил, простой: если я смотрю фильм, и на экране передо мной неизвестные мне лица, то мне кажется, что я знакомлюсь с неким новым миром. Я раскрываю для себя этого нового человека, этого незнакомца, как бы он ни был закрыт. И еще, кстати, про интровертность и экстравертность. Что такое выразительность? Это как если бы все, что я хотел скрыть, я не скрываю, а отдаю вам: вот оно, вот оно, возьмите! И тогда мизансцена публики примерно такова: “Я вдавлен в кресло и воспринимаю, воспринимаю”. Как в ресторане: мне подают, я употребляю. А в случае, если я-актер не отдаю, а укрываю, то публика как бы вовлекается в разгадку, я-зритель сам хочу вовлечься туда… Мое направление, вектор моего внимания совершенно другой – я вглядываюсь. И это сродни тому, что собой представляет мир. Я же не смотрю на мир, удобно расположившись в кресле, дескать, давай, покажи мне себя, развлекай. Я вглядываюсь в него, я слушаю это безмолвие, я пытлив, я жаден, я хочу открыть эти тайны для себя. Так устроено созерцание. Примерно так. Умозрительная, быть может, идея, но она меня вдохновляет.
Почему в основе картины “Возвращение” лежит другой творческий метод? Там актеры более эмоциональны и более заразительны. Может быть, потому, что в фильме “Изгнание” другая фабула, другой сюжет, другая энергетика?
В октябре месяце, надеюсь, выйдет книга в переводе с испанского. Некто Закариас Марко написал исследование под заглавием “Диптихи. Идея отца в фильме «Возвращение»”. Мне она показалась весьма интересной, во всяком случае здесь, в России, пока никто не приблизился к тому разговору, который предлагает Закариас. В издательстве “Логос” появится этот текст. Второй частью этой книги будет наша беседа с Ксенией Голубович, одним из редакторов этого издательства, где мы подробно говорим о фильме “Возвращение”. Пожалуй, так много я еще не говорил о нем, о смыслах, лежащих в его замысле, и т. д.
Так вот, в этой беседе звучала мысль об эмоциональной стороне дела. Мне кажется, эмоциональная заразительность сконцентрирована была в детских персонажах. Дети – это существа, которым нельзя отказать в самобытности их эмоциональной природы, это невозможно. Ну разве что принудить их к тому, чтобы они были абсолютно недвижимы внутренне. В “Возвращении” мне как раз и нравилось то, что есть контраст между миром взрослых, которые действуют почти как фигуры на шахматной доске, где все предопределено: Мать, Отец. А дети являются живой тканью, животворящей нитью. В “Изгнании” же, скажем так, попытка движения куда-то дальше в сторону отказа от внешней выразительности.
Ну а фигуры этих людей взрослого мира? Получается, что мы, вглядываясь в них, должны что-то для себя открыть или, по крайней мере, что-то увидеть. Не являются ли эти фигуры музыкальным знаком ферматы, то есть паузы и пустоты?
Паузы и пустоты? Вы знаете, пожалуй, попробую ответить на этот вопрос. Возможно, когда-нибудь я буду думать иначе, но сегодня мне близок именно такой взгляд на способ игры. Я исхожу из следующего: эмоциональная природа человека – это, в общем, достаточно простая материя, то, с чем мы каждый день имеем дело. Мы с этим живем, мы постоянно реагируем, мы живые существа. Эмоциональность и – как ответ – сентиментальность: ее вызвать в зрителе очень легко. Невероятно просто, уверяю вас. Я видел однажды телевизионную передачу с Маргаритой Тереховой, где на вопрос ведущего о том, как, должно быть, трудно актеру плакать в кадре, Терехова просто на две секунды опустила вниз голову, а затем подняла лицо, дышащее слезами. Воспроизвести подобные эмоции, как бы фиктивные, достаточно легко, более того, если ты этого не умеешь – тебе нечего делать на сцене. “Над вымыслом слезами обольюсь”. Если я актер, то я могу это воспроизвести в любую секунду. Но это дорогого не стоит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: