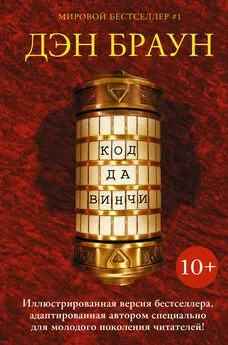Дмитрий Сивков - #БабаМилосская. Наши: «Код да Винчи» и саги Толкиена
- Название:#БабаМилосская. Наши: «Код да Винчи» и саги Толкиена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449045720
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Сивков - #БабаМилосская. Наши: «Код да Винчи» и саги Толкиена краткое содержание
#БабаМилосская. Наши: «Код да Винчи» и саги Толкиена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По наводке младших Брейгелей
То, что Лев Николаевич решил и себе, и мне устроить выходной, было весьма кстати. Хотя я и без того был в отпуске, но эмоциональную встряску в последние дни получал посильнее, чем в самых насыщенных событиями командировках. Впечатлений хватало, например, и в Чечне, и в Крыму, где довелось быть свидетелем и в какой-то мере летописцем того, как полуостров становился наш. Но всё происходившее там было ожидаемым – знал, зачем ехал – и не столь информационно сконцентрированным. Первоначальный экстракт получался как бы разбавленным благодаря большому количеству сопричастных к происходящему, примешивал их эмоции, в итоге выходило то, что делает игристые напитки забористыми, но лёгко выветриваемыми из головы. Здесь же потчевали чистым спиртом. И под рукой не оказалось ничего, чем бы его разбавить. Тайм-аут пришёлся в пору, хорошо бы голове просветлеть. Да и столичному профессору после моих откровений, видимо, требовалось скорректировать курс лекций и провести консультации.
По словам московского гостя, выходило, что я на крючке у пока неведомого, но, кажется, вполне реального тайного общества. И взяли меня в серьёзный оборот после того, как в Пушкинском музее я сделал несколько снимков Афродиты Милосской (именно так там она обозначена) на планшетник и отправил их себе на электронную почту. Эта спонтанная экскурсия, подтвердившая мои столь же смутные, сколь и невероятные догадки, произошла в апреле этого года. Точнее – восьмого числа. Чем больше оказываешься вовлечённым в эту историю, тем легче начинаешь воспринимать знаки судьбы. В ином разе непременно отнёс бы их к обычному стечению обстоятельств, ничем, кроме самого факта случайного совпадения, не примечательному.
Когда делаешь пересадку в Москве и у тебя есть полдня, которые ещё не решил, чем занять, становишься более внимательным к различного рода рекламам и афишам. Уже не проскакиваешь мимо людей, раздающих флаеры, так, словно они невидимки или обитатели какого-то параллельного мира. К идущим от них знакам становишься более чуток, как будто обычно индифферентный к процессу промоутер может обернуться едва ли не брамином или оракулом, а рекламная листовка, дающая сомнительную скидку, или анонс, мелькнувшие в переходе метро, – лотерейным билетом. Выигрышным. Мимо бы не проскочить.
Почему моё внимание привлёк именно небольшой плакат-анонс (попавшийся на глаза уже и не помню где) о выставке «Младшие Брейгели» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина? Такой вопрос (хотя в обращении к себе сформулированный более кратко и ёмко: «Вот какого хера..?!») я себе позже задавал, и не раз. Вразумительного же ответа – провидение к таковому вряд ли отнесёшь – так и не нашёл. В самом деле, выбор более чем странный, учитывая мой уровень познаний в живописи. Он не позволял, например, отделить малых фламандцев от младших Брейгелей, а тем более подвигнуть к тому, чтобы мотаться по столице в поиске экспозиции с их картинами. Впрочем, пока ноги сами несли в Пушкинский музей, об этом я не задумывался. Памятуя о его местонахождении – как-то раз доводилось проходить мимо, – я добрался на метро до станции «Площадь революции» и от Красной площади по Моховой пошагал в сторону Волхонки. Уже в пути понял, что мог бы значительно сократить себе путь, если бы вышел на станции «Библиотека имени Ленина». Дорога по следам памяти не всегда самая короткая.

Афиша на выставку в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина стала путеводной звездой
Контролёрша на входе, вернув оборванный билет, указала местонахождение выставки. Та располагалась в небольшом – больше похожем на закуток – зале, приютившемся на задворках Греческого дворика. Сам он оказался заполнен копиями покалеченных временем древних скульптур, на беглый взгляд отталкивающих, как экспонаты Кунсткамеры. Какой-то сквознячок прошёлся по душе при виде словно четвертованных мраморных тел, но я даже не поёжился. Прошёл мимо. Настолько был одержим желанием узнать, какого же чёрта привлекли меня эти младшие Брейгели и вообще, кто они такие.
Не сразу, но в чём-то определённо удалось разобраться. Во всяком случае, – с путаницей в многочисленных представителях плодовитой художественной династии, берущей начало от Питера Брейгеля Старшего. На всю жизнь запомнил его сыновей Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля, внука Яна Брейгеля Младшего и правнука Яна ван Кесселя Старшего, творивших в шестнадцатом – семнадцатом веках. Правда, семейка нидерландских художников вызывала мысль о существовании некой живописной мафии (даже клички имелись: помимо Старший – Младший, ещё Мужицкий, Адский, Бархатный), но даже если и так, то кому какое теперь до этого дело. Художниками-то они были действительно стоящими, своим семейным подрядом опровергнувшими постулат о том, что на детях гениев природа отдыхает. Даже на мой неискушённый взгляд, их картины, писавшиеся обычно на дубовых досках, были интересны. Хотя почему «даже»? Они и создавались с тем расчётом, чтобы быть понятными всем имеющим глаза: начиная с тех, кто мог себе позволить владеть шедеврами, заканчивая теми, кому доводилось лишь смахивать с них пыль.
В принципе природа притягательности такого высокохудожественного «ширпотреба» понятна. Я бы назвал это «социальный реализм позднего Возрождения» (если что, дарю термин, вдруг кому из искусствоведов приглянется). Сюжеты динамичны, многоплановы, с широкой перспективой. Порой ловишь себя на мысли, что изучаешь стоп-кадр художественного фильма: при этом главные персонажи выведены за кадр, а ты имеешь возможность сколь угодно долго разглядывать замеревшую массовку, находя всё новые и новые детали – то влюбленную парочку, то пташку, притаившуюся в ветвях дерева, то собачонку, ухватившую где-то кость, то тётку величиной с семечко подсолнечника, кормящую кур… Если это сегодня обращает на себя внимание, то можно только догадываться, каким успехом пользовалось в неизбалованном на зрелища шестнадцатом веке.
Что касается тематики, то она ясна, как божий день, не отягощена контекстом. Взять «Крестьянский праздник» Питера Брейгеля младшего Адского. Тут на всеобщем пире одновременно пляшут, бьют друг другу морды, лезут на столб за призом, ходят по мечам, крутят шуры-муры, блюют, выдергивают зуб… И всё это чётко прописано в самых мелких деталях на фоне ярких декораций. Каждый фрагмент пространства предстаёт, можно сказать, отдельной частью «мыльной оперы». Не торопитесь, рассмотрите повнимательней. Завтра, коли будет воля, пожалуйте в другой угол картины на следующую серию. Если бы посещение Пушкинского музея ограничилось только впечатлениями от выставки младших Брейгелей, то и тогда можно было бы говорить об удачном московском транзите. Но оказалось, черёд главного откровения ещё не наступил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
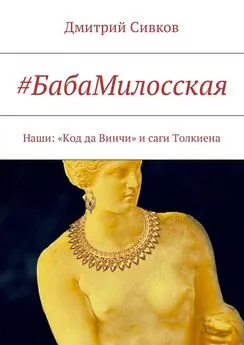
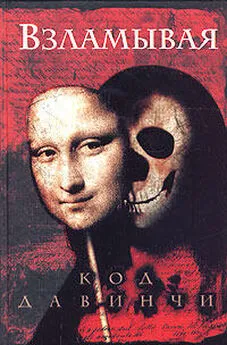
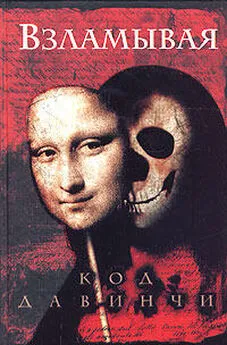
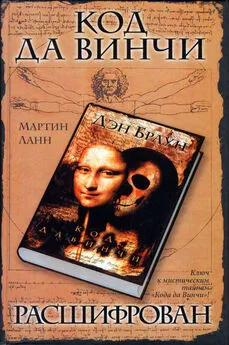
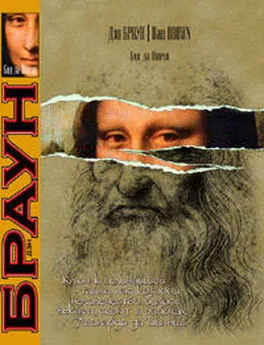

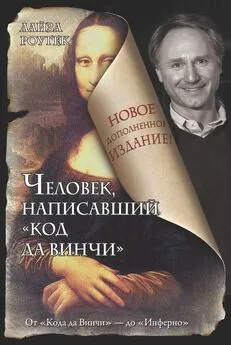
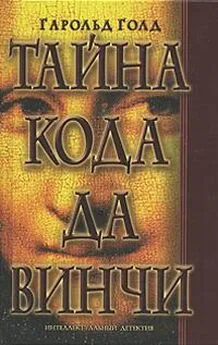
![Дэн Браун - Код да Винчи [litres]](/books/1145845/den-braun-kod-da-vinchi-litres.webp)