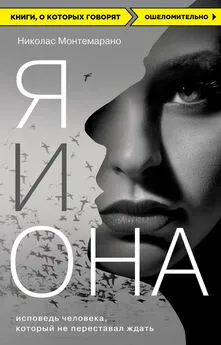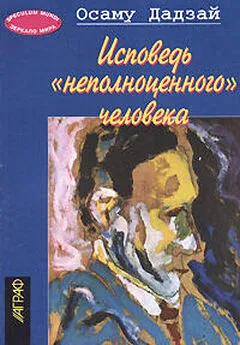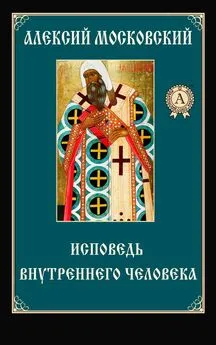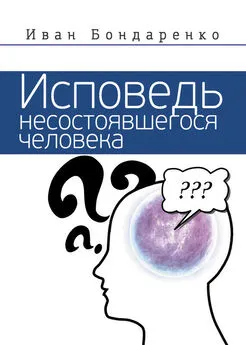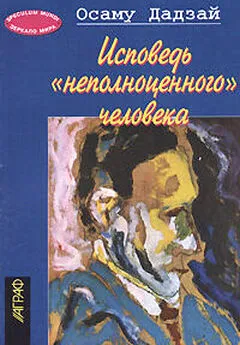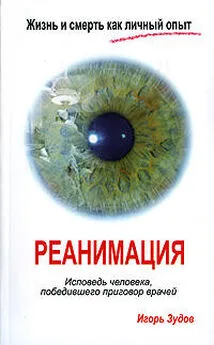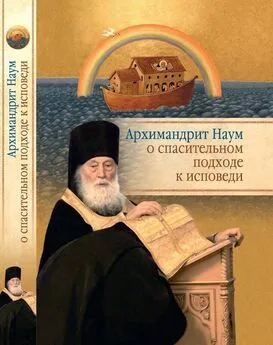Николас Монтемарано - Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать
- Название:Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-6108
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николас Монтемарано - Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать краткое содержание
Я и Она. Исповедь человека, который не переставал ждать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Знаешь, я очень рад, что ты сперла эту книгу, – сказал я.
– Ну, ты уж больно-то не радуйся, – осадила она меня. – На каждую минуту, когда я ощущаю благодарность, приходится десяток таких, когда я по-прежнему чувствую себя проклятой.
– Ты стараешься, как можешь, – утешил я.
– Именно это я и собираюсь сказать Богу, когда помру, – сказала она. – Я старалась, как могла.
Она прикурила еще одну сигарету, сделала затяжку.
– Ну, не то чтобы это была чистая правда, – сказала она.
Затянулась еще раз, потом еще.
– Да и в Бога я не то чтобы верю, – закончила она.Осенью, при первых утренних лучах, Кэри собирала листья, чтобы класть их как закладки в книги. Как раз нынче утром, перед тем как сесть писать эти воспоминания, я нашел один лист в книге стихов о мусоре – в книге, которая могла бы прийтись по вкусу моему отцу, если бы он любил поэзию. Я испытываю искушение поискать и другие листья, но предпочитаю воздержаться. Не хочу обнаружить, что уже нашел последний. Предпочитаю возможность встречи с неожиданностью – предпочтение, которого не понял бы человек, о котором я пишу. Что умерло – то умерло, как некоторые говорят, это относится и к листу, и к человеку, который написал стихи о мусоре, и к моему отцу. Но другие сказали бы, что поэт жив благодаря своим словам, а мой отец – благодаря тому, что я читаю слова поэта, а моя жена – благодаря этому листу, пусть даже сам лист мертв.
Кэри дышала рядом со мной; близнецы шептались в соседней комнате; собака вздрагивала на полу, охотясь во сне за белкой, которую никогда не могла поймать.
Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и создал свой день: все, что мне могло хоть как-то понадобиться – каждого человека и каждое переживание, – чтобы заставить проявиться мои намерения.
У меня уже было все, чего я хотел, так что мое намерение было – сохранить: жену, детей, карьеру, веру.
Я слышал, говорят, что мы ничего не сохраняем. Я слышал, говорят, будто хорошо терять то, что мы больше всего боимся потерять.
Покой и безопасность, думал я. Изобилие и радость.
Звучит как молитва, но не молитва. Молитва, по крайней мере, того типа, которую я практиковал в своем католическом детстве, ощущалась скорее как вымаливание. Ощущалась скорее как « пожалуйста ». А это было делание, акт творчества, авторства. Ощущение от молитвы было таким, будто переворачиваешь следующую страницу чужого романа и надеешься, что все закончится хорошо. Я же предпочитал быть автором своей жизни.
Покой и безопасность, изобилие и радость. Мантра во время пробежки. Мое тело становилось сильнее с каждым километром, с каждой петлей вокруг парка, одиннадцать километров вместо восьми, ветер остужает меня, последний подъем на последний холм, я мог бы с легкостью пробежать еще пять километров, мог бы добежать до дома матери в Квинсе и вернуться обратно – и с этой мыслью я вспомнил, что сегодня за день, почему на улицах так мало людей. Утро четверга, но никто не идет на работу.
После завтрака я взял детей с собой в кондитерскую. Большинство магазинов были закрыты, только не кондитерская, не лавка мясника; в мелких деталях этот день приоткрывал свою сущность. Четверг, который кажется воскресеньем, если не считать отсутствия церковных колоколов. Длинная очередь в кондитерскую, увы, тыквенный пирог уже закончился. Что ж, тогда чизкейк. И черно-белое печенье напополам детям. Они препирались из-за ванильной половинки – Люси жаловалась, что Винсент откусил слишком большой кусок, – и оставили мне шоколадную сторону черно-белого кружка, как я лично считаю, утешительный приз.
Ничего удивительного, я вполне мог позабыть, что́ это был за день. В конце концов, я каждый день просыпался с выражением благодарности. Годами День благодарения мы встречали вдвоем с матерью, иногда – с вдо́вой соседкой, бездетной, или чьи дети жили в другом конце страны. Каждые пару лет мать приглашала кого-нибудь новенького (в людях, о которых моя мать могла бы сказать «У нее никого нет», никогда не было недостатка), и в момент наибольшего многолюдья, в тот год, когда я начал учебу в колледже, к нам пришли восемь человек гостей, с каждым из которых мою мать связывали узы – не кровного родства, а трагедии. Несколько мужчин, но в основном женщины, с которыми она знакомилась в церкви, или в супермаркете, или в автобусе, самая молодая – разведенка едва за сорок, самый пожилой – девяностолетний мужчина, который вплоть до недавно случившегося с ним инсульта учил игре на фортепиано соседских детишек. После того как я в свои восемнадцать уехал из дома, мать посылала мне письма, сообщая об операции на сердце у мистера Келлера, или о том, что дочь миссис Гримм попала в аварию, точно я мог помнить этих людей, нередко приходивших к нам лишь однажды. Письма матери, которые регулярно приходили примерно раз в месяц, несмотря на то, что я с такой же частотой приезжал к ней, создавали у меня впечатление, будто она пишет сыну, живущему в Риме или Париже, а не на расстоянии одной поездки в метро, на Манхэттене. Моя мать прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь, но ни разу не воспользовалась метро; я с тем же успехом мог жить на другом берегу океана.
Теперь, когда были Кэри и близнецы, моя мать больше не нуждалась в других; за столом и так трагедий хоть отбавляй. Конечно, за ним незримо присутствовал мой отец, он-то был всегда, а компанию ему составляла семья Кэри («Отец, мать, сестра, разбились все разом, вот так-то», – говорила мать людям, ища в их лицах сочувствие, которое могла бы с толикой воображения отнести на свой счет), и еще сами близнецы («Бедняжки, у их матери проблемы, ну, вы понимаете», – и она оставляла слушателям додумывать остаток истории), так что матери больше не было нужды приглашать никого другого, хотя она по-прежнему продолжала поглядывать в окошко, выясняя, кто еще из пожилых соседей остался «совершенно один» и наверняка придет к ней в гости на следующий день.
Всегда – посещение кладбища, никогда – вместе. Это первое, что мать делала с утра, без меня. Спустя десять минут из окна своей спальни я видел, как она возлагает цветы на могилу отца. В те первые несколько лет, когда горечь от смерти отца была внове, когда чувство вины было совершенно непереносимым, это была наихудшая, наиболее тонкая форма жестокости.
В ду́ше – слишком много мыслей, воспоминаний, которых я не хотел. Я вылез из ванны, начал сушить волосы полотенцем и только тогда осознал, что не смыл шампунь, так что мне пришлось снова включить воду, подобрать нужную температуру и прополоскать волосы, а когда снова вылез из ванны, я вспомнил, что теперь полотенце все в шампуне, что больше в ванной нет чистых полотенец, и позвал Кэри, но она меня не услышала, так что я пошел, мокрый, через весь коридор, отыскал чистое полотенце в ворохе еще не сложенного белья, а на обратном пути к ванной поскользнулся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: