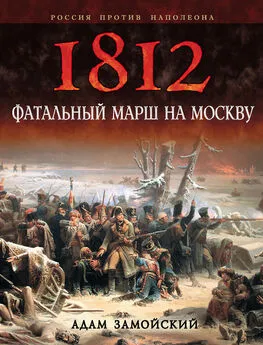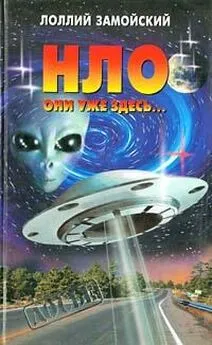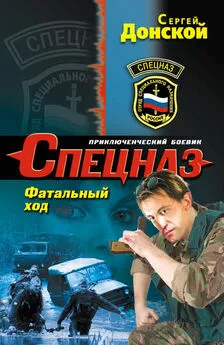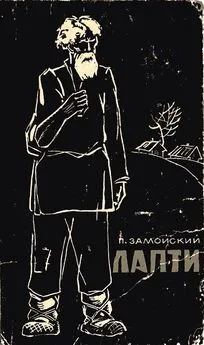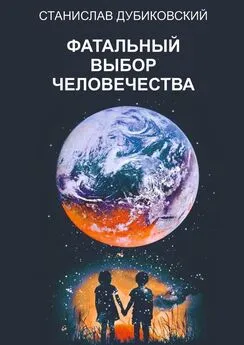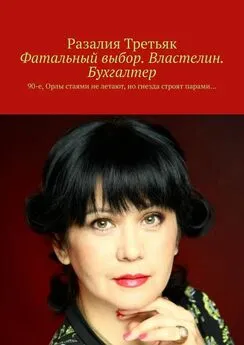Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву
- Название:1812. Фатальный марш на Москву
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-59881-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адам Замойский - 1812. Фатальный марш на Москву краткое содержание
Все это цитаты из иностранных периодических изданий, по достоинству оценивших предлагаемую ныне вниманию российского читателя работу А. Замойского «1812. Фатальный марш на Москву».
На суд отечественного читателя предлагается перевод знаменитой и переизданной множество раз книги, ставшей бестселлером научной исторической литературы. Известный американский военный историк, Адам Замойский сумел, используя массу уникального и зачастую малоизвестного материала на французском, немецком, польском, русском и итальянском языках, создать грандиозное, объективное и исторически достоверное повествование о памятной войне 1812 года, позволяя взглянуть на казалось бы давно известные факты истории совершенно с иной стороны и ощутить весь трагизм и глубину человеческих страданий, которыми сопровождается любая война и которые достигли, казалось бы, немыслимых пределов в ходе той кампании, отдаленной от нас уже двумя столетиями.
Добавить, пожалуй, нечего, кроме разве что одного: любой, кто не читал этой книги, знает о французском вторжении в Россию мало – ничтожно мало. Посему она, несомненно, будет интересна любому читателю – как специалисту, так и новичку в теме.
1812. Фатальный марш на Москву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лейтенант штабной службы Жан-Рош Куанье, произведенный в офицеры из сержантов пеших гренадеров Старой гвардии, получил 15 июля задание возглавить колонну из примерно семисот отставших солдат 3-го корпуса и вести их на соединение с полками, к которым они принадлежали. Коль скоро жизненный путь Куанье начинал мальчишкой-пастухом, поручение не сулило трудностей. Но, против ожидания, выполнить его оказалось далеко не так просто. 133 испанца из колонны быстренько дезертировали, когда же Куанье попытался догнать их, они начали палить в него из ружей. Пришлось найти отряд из 50 конных егерей и с их помощью изловить всех сбежавших. После этого лейтенант заставил пойманных дезертиров тянуть жребий, расстрелял половину из них, и только тем смог сохранить колонну как единое целое {531}.
Весь регион в тылу у Grande Armée полнился солдатами, не имевшими никакой военной ценности и лишь грабившими страну, вызывая ярость со стороны жителей. Шайки дезертиров из разных частей и всевозможных национальностей, обычно под предводительством какого-нибудь француза, обустраивались в усадьбах немного в стороне от главной дороги, обменивая добрую волю местных на защиту, и занимались пиратством на и вокруг главной транспортной магистрали.
Генерал Рапп, ехавший из Данцига в ставку Наполеона под Смоленском, пришел в ужас от состояния войск в тылу. Согласно ему, победоносная Grande Armée оставляла за собой больше военного мусора, чем разгромленная армия, в результате чего эшелоны новобранцев, шагавших на соединение с ней и созерцавших по пути тяжкие картины, утрачивали всякий боевой дух. Многие фактически умирали от голода вдоль дороги, как и свежие кони, присланные из Франции и Германии, а также скот, который гнали из Австрии и Италии. «С момента нашего выхода из Вильны в каждом селе, в любой деревне попадались солдаты, покинувшие армию под разными предлогами», – писал принц Вильгельм Баденский, побывавший в тех краях в сентябре с корпусом Виктора {532}.
Изменить сложившееся положение дел почти или вовсе не представлялось возможным, ибо Наполеон сам свел до минимума простор для действий. Не желая связывать себя в политическом плане, он не создал должных структур местного правительства. В итоге, управлялись регионы бестолковой и продажной администрацией. Начиная с лукавого Прадта в Варшаве, деспотичного Хогендорпа в Вильне и заканчивая сребролюбивыми комиссарами в различных городках по пути. Нигде не существовало ни настоящего чувства ответственности, ни преданности делу, ни власти, способной восстанавливать порядок. В конце сентября, более чем через шесть недель после сражения, на улицах Смоленска по-прежнему во множестве валились трупы, служившие желанным источником пищи для бродячих собак со всей округи. «Худшей организации, большей халатности я никогда не то что не видел, даже не представлял», – писал капитан гессенского Лейб-гвардейского полка Франц Рёдер, проезжавший через город на пути в Москву {533}.
Более всех от такого состояния дел в результате страдали действительно больные и раненые, лежавшие в госпиталях Вильны, Минска, Витебска, Полоцка, Смоленска и, возможно, большинство уцелевших после Бородино, гнивших в Колоцком монастыре и в Можайске. Тысячи раненых французов, включая двадцать восемь генералов, были разбросаны по разным зданиям в Можайске. Как утверждал занимавшийся ими военный комиссар Белло де Кергор, никакой провизии для них не выделили вовсе. Способные хоть как-то передвигаться выходили или выползали на улицу и попрошайничали у прохожих, в то время как де Кергору приходилось красть еду из снабженческих колонн для прокорма остальных. Многие умирали от голода и обезвоживания, поскольку отсутствовали даже ведра или какие-то подходящие сосуды. Не было, разумеется, ни чистых повязок, ни корпии, ни бинтов, ни носилок, ни кроватей, ни свечей. Он обратился за помощью к Жюно, корпус которого стоял в Можайске, но от вестфальских солдат бывало больше неприятностей, чем проку. Когда подопечные умирали, де Кергору оставалось лишь складывать их тела на улице. На шее у него висели еще и сотни русских раненых, кое-как кормившихся щами из корешков капусты, выкопанных на соседних огородах и, если случалось, мясом какой-нибудь павшей лошади.
Однако сколько бы людей и лошадей ни имел в наличии Наполеон, каковым бы ни было качество продовольствия и фуража в его распоряжении, подход к расходованию ресурсов означал: оставаться в Москве он сможет не более нескольких недель, после чего войско начнет разваливаться. Но вместо того чтобы начать постепенный вывоз больных и раненых в западном направлении, император французов приказывал набрать еще 140 000 чел. во Франции, 30 000 в Италии, 10 000 в Баварии, плюс меньшие контингенты в Польше, Пруссии и Литве, а также просил Марию-Луизу написать отцу с просьбой усилить корпус Шварценберга. «Я не только хочу получить пополнения отовсюду, – писал он Маре в Вильну, – я также хочу, чтобы сведения о подкреплениях раздувались, мне надо, чтобы разные государи, присылающие мне подкрепления, публиковали сей факт на бумаге и удваивали бы на ней количество посылаемых мне воинов» {534}.
Кроме всего прочего, император французов не учел должным образом один важный факт: административной столицей России оставался Санкт-Петербург с находившимися в нем государственными институтами, а потому потеря Москвы ни в коем случае не ослабила способности русского государства функционировать и обслуживать интересы его правителя, в то время как обстоятельство захвата и разрушения древнего города сильнейшим образом пошло на пользу сплочению общественного мнения в деле защиты национальных интересов. Посему блеф с дутыми цифрами вряд ли мог сработать.
Александр получил известие Кутузова о «победе» в Бородинской битве 11 сентября, как раз когда русские войска занимали позиции перед Москвой [136]. В приливе радостного облегчения и благодарности, царь произвел Кутузова в фельдмаршалы и пожаловал ему денежную награду в размере 100 000 рублей. В соборах и церквях всюду в Санкт-Петербурге звонили колокола, а вечером город сиял, украшенный иллюминацией. Александр не терял времени и тотчас же отправил полковника Чернышева к Кутузову с разработанным планом окончательного уничтожения французов.
На следующий день проходившая в церкви св. Александра Невского служба во имя царя превратилась после зачтения победной реляции Кутузова в благодарственный молебен. Александр шел сквозь ликующие толпы. В столице грохотали артиллерийские залпы, а вечером город вновь сиял, точно днем.
Радость и облегчение не знали границ. «Возрадуйся Россия! Подними главу свою над всеми державами на Земле! – писал один житель другу. – Я весь дрожу от радости. Не могу спать ночью и ничего делать». На следующий день волнение не улеглось, а потому он написал очередное письмо. «Всяк и каждый поздравляет другого с победой, все обнимаются, целуются. Невозможно описать радость и восторг на всех лицах». Вытянулись лица лишь у офицеров заново набранного ополчения, таких как поручик Зотов, который с гордостью надел вонную форму и сокрушался уже по поводу упущенного, как казалось, шанса доказать патриотическую прыть. Рассуждали, привезут ли Наполеона в Санкт-Петербург в цепях или в клетке. Но на третий день настроение необъяснимым образом изменилось – появились тревога и сомнения. Улицы смолкли, а люди заметили, что упаковка для вывоза государственных архивов и сокровищ искусства из Эрмитажа почему-то продолжается {535}.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: