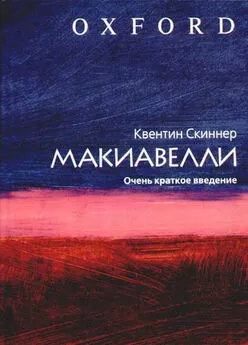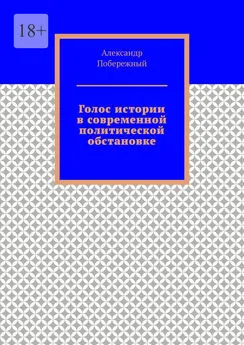Квентин Скиннер - Истоки современной политической мысли. Том 2. Эпоха Реформации
- Название:Истоки современной политической мысли. Том 2. Эпоха Реформации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7749-1312-1, 978-5-7749-1268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Квентин Скиннер - Истоки современной политической мысли. Том 2. Эпоха Реформации краткое содержание
Истоки современной политической мысли. Том 2. Эпоха Реформации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как только Лютер испытал это великое озарение, все остальные части его теологии постепенно встали на свои места. Прежде всего это касается понятия оправдания, лежащего в основе его учения о вере. Первая полная формулировка содержится в проповедях и диспутах 1518–20 гг., в частности в проповеди 1519 г. «О двух видах праведности» (Saarnivaara 1951, pp. 9–18, 92–95). Лютер выходит за пределы традиционного патристического понимания оправдания как постепенного искоренения верующим своих грехов. Для него оправдание – прямое следствие fdes apprehensiva , «захватывающей и присваивающей веры», благодаря которой грешник внезапно узревает праведность Христа и становится «одним со Христом, обладая той же праведностью, что и Он» (Luther 1957d, p. 298; ср. Althaus 1966, p. 230). Лютер подчеркивает, что праведность верующего никогда не бывает domestica – не достигается им самим, а еще менее может быть заслужена. Она может быть только extranea – «внешней праведностью, вливаемой в нас независимо от наших дел, одною лишь благодатью» (Luther 1957d, p. 299). Верующий всегда simul justus et peccator – одновременно грешник и оправданный. Его грехи не отменяются, но, благодаря вере, перестают свидетельствовать против него.
Лютер также связывает это понимание веры и оправдания с процессом, в результате которого жизнь грешника освящается. Эта тема также впервые поднимается в проповедях 1518–20 гг. (Cranz 1959, pp. 41–43). Христианин – обитатель одновременно двух царств: царства Христова и царства мирских вещей. Сначала происходит оправдание грешника, и «не постепенно, но целиком и сразу» (p. 126). Как говорит Лютер в проповеди «О двух видах праведности», искупительное присутствие Христа «поглощает все грехи разом» (Luther 1957d, p. 298). Процесс освящения, после того как грешник обретает веру, «совершается постепенно» (Cranz 1959, p. 126). В результате появляется различение, играющее центральную роль в социальной и политической мысли Лютера и лежащее в основе влиятельного учения Меланхтона об «адиафоре», а именно различение той пассивной праведности, которой могут достичь христиане в царстве Христа, и праведности активной, или светской, не относящейся к спасению, но существенно важной для надлежащего управления мирскими делами.
Глубокое убеждение Лютера, касающееся искупительной благодати Божьей позволило ему разрешить жестокую дилемму Ветхого Завета с его законом, который невозможно исполнить, и проклятием тех, кто его не исполняет. Ответ, которые впервые обстоятельно изложен в трактате «О свободе христианина» (1520), дается через противопоставление вести Ветхого Завета и вести Нового Завета, неисполнимых заповедей Божьих и Его обетования искупления (Luther 1957c, p. 348). Цель Ветхого Завета, пишет он, – «научить человека познать самого себя», чтобы «он признал свою неспособность делать добро и потерял надежду», отчаялся так же глубоко, как сам Лютер (p. 348). Таково «странное дело закона». Напротив, цель Нового Завета – убедить нас в том, что, хотя мы и не можем достичь спасения, «пытаясь исполнить все дела Закона», но все же способны достичь его «быстро и легко через веру» (p. 349). Таково «истинное дело Евангелия». «Диалектика Закона и Евангелия», по словам Макдоноу, прямо соотносится с индивидуальным опытом греха и благодати, получаемым через «отчаяние и веру», а противопоставление Лютером двух позиций подводит к «самой сути его главных убеждений» (McDonough 1963, pp. 1–3).
Отношение между двумя вестями проливает свет на еще одну характерную черту теологии Лютера, касающуюся значения Христа. Именно Христос сообщает людям об искупительной благодати Божьей. Таким образом, только через Христа мы освобождаемся от неисполнимых требований Закона и получаем «радостную весть» о возможности спасения. Это означает, что, несмотря на выдвижение на первый план могущества сокровенного Бога, в этом взгляде нет ничего мистического в том смысле, что никто не призывает заняться созерцанием бесконечно далекого и вечного Бога. Лютер стремится доказать, что его теология – theologia crucis , теология креста, и ключом к нашему спасению является жертва, принесенная Христом. Христос – «единственный проповедник» и «единственный спаситель», который не только снимает с нас груз моральной никчемности, но служит «источником и содержанием исполненного верой знания о Боге» (Siggins 1970, pp. 79, 108).
В свете лютеровской христологии представляется ошибочным мнение, высказанное Трёльчем в его классическом изложении социальных взглядов Лютера. По словам Трёльча, Лютер считал полным «объективным выражением морального закона» декалог и полагал, что этот закон был «лишь подтвержден и истолкован Иисусом и апостолами» (Troeltsch 1931, p. 504). Данная оценка несомненно верна в отношении Кальвина, который всегда настаивал на прямом моральном значении Ветхого Завета. Однако применительно к Лютеру она отодвигает на задний план и никак не объясняет причину, по которой он придавал жертве Христа столь великую преобразующую роль. Для Лютера – гораздо в большей степени, чем для Кальвина, – Христос пришел не только для того, чтобы исполнить Закон, но также чтобы Своей искупительной заслугой и любовью освободить верующих от требований Закона. Поэтому для Лютера (но не для Кальвина) существенно важно понимание заповедей Закона в свете Евангелия, а не Евангелия в свете Закона (Watson 1947, p. 153).
Наконец, солафидеизм Лютера – учение об оправдании только верою – приводит к двум центральным положениям еретической концепции Церкви. Прежде всего, он отрицает значение Церкви как видимого института. Если fducia – единственное, что позволяет христианину надеяться на спасение, то это не оставляет места для ортодоксальной идеи Церкви как власти, посредничающей между верующим индивидом и Богом (Pelikan 1968). Истинная Церковь – не что иное, как невидимая congregatio fidelium , собрание верующих во имя Божие. Лютер считал это понятие исключительно простым, полностью содержащимся в его тезисе о том, что греческое слово ecclesia , которое часто употребляется в Новом Завете для обозначения первоначальной Церкви, должно переводиться просто как Gemeinde , или собрание (Dickens 1974, p. 67). Однако, несмотря на уверения Лютера, что даже «ребенок семи лет знает, что такое Церковь», его кажущееся простым учение было многими понято неправильно, особенно теми, кто считал, что он хочет «построить Церковь так же, как Платон строит свое государство, которое нигде не существует» [6] Об этом мнении и реакции Лютера на неверные толкования см. Spitz 1953, особенно pp. 122f.
. В своих зрелых теологических сочинениях Лютер опровергал такие толкования, добавляя, что, хотя Церковь всего лишь communio , это также republica и как таковая нуждается в зримом воплощении в мире (Watson 1947, pp. 169–170; Cranz 1959, pp. 126–131). Его трактат «О Соборах и Церкви», впервые опубликованный в 1539 г., даже включает важный перечень признаков, или знаков, необходимых (хотя и совершенно недостаточных) для того, чтобы отличить общину, составляющую «христианский святой народ», от группы папистов или «дьяволов-антиномистов» (Лютер имел в виду анабаптистов), заявляющих, что они осенены божественным светом (Luther 1966a, p. 150). Впрочем, делая позднее эти оговорки, Лютер продолжал настаивать, что истинная Церковь не обладает никаким иным реальным существованием, кроме как в сердцах верующих. Главное его убеждение всегда состояло в том, что Церковь – это Gottes Volk , «народ Божий, живущий словом Божьим» (Bornkamm 1958, p. 148).
Интервал:
Закладка: