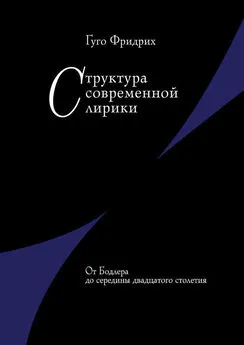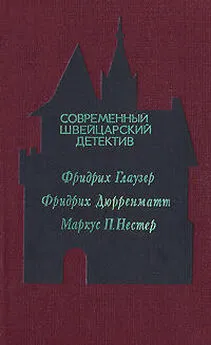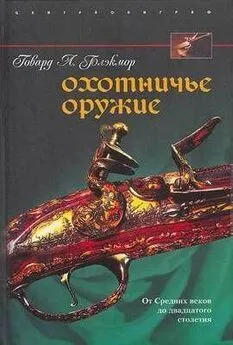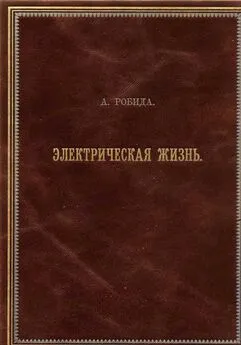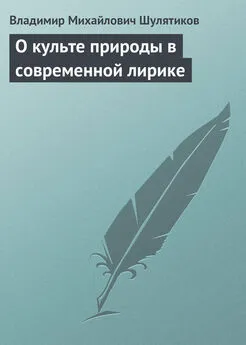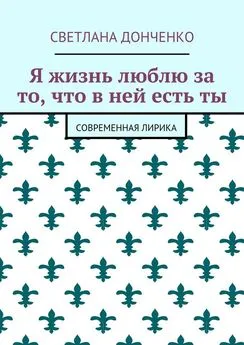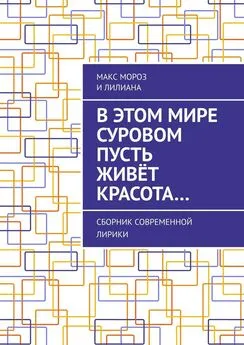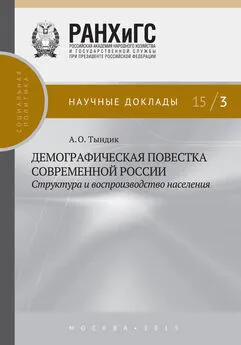Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Название:Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянских культур
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-043
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия краткое содержание
Профессор романской филологии Гуго Фридрих (1904—1978) почти всю жизнь проработал во Фрайбургском университете. Его перу принадлежат выдающиеся труды («Классики французского романа», «Монтень», «Структура современной лирики», «Эпохи итальянской лирики» и др.). «Структура современной лирики» наиболее интересна – автор прослеживает пути современной поэзии от Бодлера до середины XX столетия. Ситуация лирики, с середины XIX века отрекшейся от позитивизма, чувств, эмоций, любви, пейзажей и прочего классического ассортимента, оказалась поистине трагичной. Неприятие любой лирической и философской конвенции, все нарастающая алиенация артистов от общества с его проблемами, от реальности – людей, бытия, вещественности, от пространства и времени, от своих читателей, от самих себя, поиски «чистого» абсолюта, прорыв к магии слова – все это радикально развернуло поэзию на 180 градусов, привело к небывалой «условной» выразительности. В терминологии Г. Фридриха лирика Рембо, Малларме, Элиота, Сент-Джон Перса, Унгаретти, Лорки, Алей-хандре, Гильена обретает смысл и обаяние высокого духовного совершенства. По Фридриху, современная блистательная поэтическая плеяда художественно и философски, вместе с живописью и музыкой, обретает себя в недостижимой высоте.
В приложении читатель найдет некоторые трудные стихи на языке оригинала и в переводах Евгения Головина, которые дают представление о том, как сочетаются слова без общепринятого согласования, как функционирует новый язык нового «дикта». Следует отметить необычную композицию заключительного эссе Головина: трудные философские и филологические понятия новой лирики рассматриваются им в изящных фрагментах, отличающихся глубиной и проникновенностью.
Перевод: Евгений Головин
Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все это свидетельствует о сугубо современном характере поэзии Малларме, все это он глубоко продумал и, при высокой сложности творческих результатов, все это очень хорошо познается в последовательности. Малларме – еще один путь нового лиризма. Здесь мы, как в ситуации с Рембо, находим парадокс: имеется в виду серьезное воздействие загадочного, замкнутого произведения Малларме. Это один из симптомов положения, в котором вообще пребывает современная поэзия. Одинокое, замкнутое беспокоит, слышится, вновь и вновь комментируется, привлекает учеников и делает их мастерами. Необычность завораживает душу, израненную обыкновенностью. Произведение Малларме – не плод литературного досуга или нарочитого эстетицизма. Оно отвечает высокой требовательности поэта по отношению к себе. Голос Малларме был услышан, о влиянии его поэзии свидетельствуют европейские имена: Георге, Валери, Суинберн, Т. С. Элиот, Гильен, Унгаретти.
Несколько забегая вперед, отметим некоторые особенности Малларме. Здесь и далее мы ориентируемся исключительно на вторую фазу его творчества, то есть на поэзию, созданную после 1870 года. Тихая, едва ощутимая, она вибрирует в пространстве почти безвоздушном. В стихотворении Малларме сопряжены несколько кругов значений, из которых последнего круга почти не способно коснуться осмысленное восприятие. Малларме уточнил известный постулат Бодлера: задача художественной фантазии – не идеализированное отображение, но деформация действительности. Он в определенном плане завершил этот постулат, придав ему онтологическую основу. Равным образом он обосновал онтологически темноту дикта, уклонение от ограниченного понимания. Ибо единство творческого усилия и размышления над искусством обусловлено у него идеей абсолютного бытия (равнозначного «ничто») в отношении этого бытия к языку. Теоретически и весьма осторожно проходит эта мысль в «Divagations» [59] и в нескольких письмах, но свое совершенное выражение она обретает в поэзии. Разумеется, нет речи об ученой или, если угодно, научной поэзии. Здесь поэзия – средоточие, предел, место встречи слова и абсолюта. Здесь музыка достигает высоты, которой она не знала после античной литературы. Конечно, это печальная высота. Нет подлинной трансцендентности, нет богов.
Это все мы попытаемся объяснить позднее. Читатель вправе спросить: имеем ли мы вообще дело с лирикой? Почему Малларме не излагает свои онтологические соображения понятно и однозначно? Но ведь однозначная фиксация убивает таинственность. К ней, к максимальному сопряжению с нею стремится поэзия Малларме. Эта поэзия, эта мысль не уходит от эмпирического мира в онтологическую всеобщность, как раз наоборот. Объекты лирики Малларме совсем просты: ваза, консоль, веер, зеркало. Они постепенно лишаются предметности, перемещаются в собственное отсутствие, отмирая в своей конкретности, становятся проводниками невидимой напряженности. Их бытие переходит в слова, которые их называют, и в этой новой явленности, в невидимой напряженности они порождают необычные смысловые активизации. Они – простые предметы нашего мира – превращаются в загадку, до края наполняются тайной. Это происходит с любым вещественным, окружающим нас. Наши глаза более не узнают понятных вещей, в которые глубоко проникает абсолютное бытие или «ничто»: так Малларме в знакомом, доверительном реализует изначальную тайну. Поэтому лирикой здесь именуется песня тайны в словах и образах, и душа тревожно вибрирует даже в неведомой, совершенно чуждой сфере.
Интерпретация трех стихотворений: «Sainte»; «Éventail (de Mme. Mallarmé)»; «Surgi de la croupe» [60]
Нам представляется целесообразным, для введения в этого трудного автора, поговорить о трех его стихотворениях. Не без некоторого педантизма, к сожалению.
Первый текст – «Sainte»; окончательная версия датирована 1887 годом. Читателю, разумеющему по-французски, было бы полезно тихо прочесть вслух данные стихотворения. Эта поэзия, действуя поначалу таким способом, лучше подготовит внутреннее восприятие своего анормального содержания.
À la fenêtre recélant
Le santal vieux qui se dédore
De sa viole étincelant
Jadis avec flûte ou mandore,
Est la Sainte pâle, étalant
Le livre vieux qui se déplie
Du Magnificat ruisselant
Jadis selon vêpre et complie:
À ce vitrage d’ostensoir
Que frôle une harpe par l’Ange
Formée avec son vol du soir
Pour la délicate phalange
Du doigt que, sans le vieux santal
Ni le vieux livre, elle balance
Sur le plumage instrumental,
Musicienne du silence.
У окна – оно скрывает старый сандал виолы, утративший свое золото, которое когда-то искрилось с флейтой или мандорой [61] ,
Бледная святая, перед ней старинная книга, раскрытая на магнификате [62] , который когда-то струился в завершающий час вечерни,
У этого цветного стекла дароносицы, едва задетого арфой, очерченной (сформированной) вечерним полетом ангела для деликатной фаланги
Ее пальца, который без старого сандала, без старинной книги, она колеблет над инструментальным крылом, арфистка молчания, музицируя молчание.
Метрически безупречный текст высказан в единственном, однако незавершенном предложении. Конструкция этого предложения, далекого от ораторских ухищрений, довольно проста, хотя и требует некоторого размышления. Итак: «À la fenêtre… est la Sainte… À ce vitrage…» Оно состоит из обстоятельства, короткого главного предложения с незаметным глаголом («est») и одним запоздалым приложением. Эта конструкция скрыта придаточным первой строфы, придаточными предложениями второй и, заключительно, придаточными предложениями третьей и четвертой. Аппозиция («À ce vitrage») парит в воздухе, заключительные придаточные не соединяют структуру текста, напротив, открывает целое свободной недосказанности. Простое, но само по себе эллиптическое ведение предложения дает пространство тихому говорению, шепоту, замирающему на грани (названного в последнем слове) молчания.
Первый вариант был написан почти за двадцать лет до этого. Стихотворение тогда называлось: «Sainte Cécile, jouant sur l’aile d’un Chérubin» [63] . Осталось «Sainte» – нечто общее и весьма неопределенное. Дереализация захватила и название, лишив его претензии на однозначность.
В стихотворении несколько объектов: старый инструмент из сандалового дерева, цветное стекло дароносицы, арфа, книги с магнификатом. Но они пребывают в загадочных отношениях между собой или вообще предметно не присутствуют. Синтаксически цветное стекло дароносицы кажется разъяснительной аппозицией к окну. Можно ли цветное стекло приравнять к окну? В обычном смысле это едва ли представимо. Арфа третьей строфы «очерчена (сформирована) вечерним полетом ангела». Метафора ли она к полету ангела? Но далее она вновь арфа – крыло как музыкальный инструмент. Крыло и арфа не только метафора, но идентичность – аналогичное мы знаем из Рембо. Стихотворение движется в области, где реальные различия исключены, в области многозначных интерференций. Однако процесс интенсифицируется. Виола, «скрытая» окном, также предметно не присутствует, а только вербально. Флейта и мандора – только воспоминания из «когда-то». Имеется старая книга с магнификатом, но ее свойство не относится к настоящему: «когда-то» струились ее тона. Начиная с третьей строфы, еще энергичней функционирует удаление вещей. Переход образует арфа, она же крыло ангела – ирреальная идентичность. Далее исчезновение совершается окончательно. Святая играет без старого сандала, без старинной книги. Играет ли она вообще? Может быть, в молчании, арфистка молчания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: