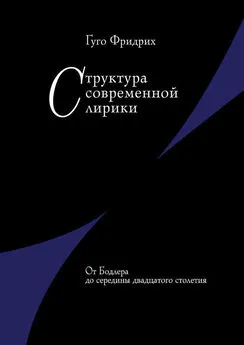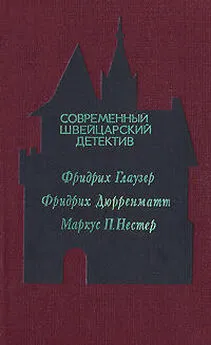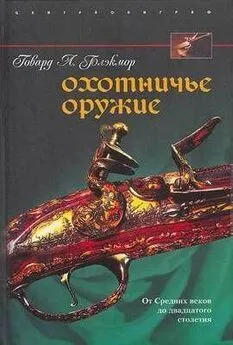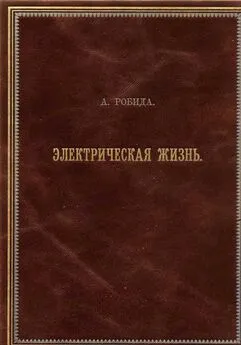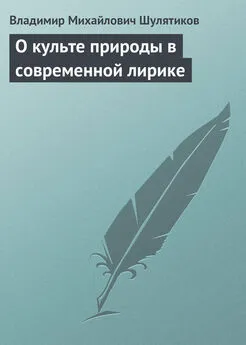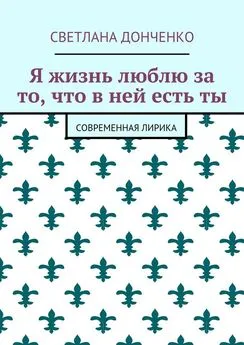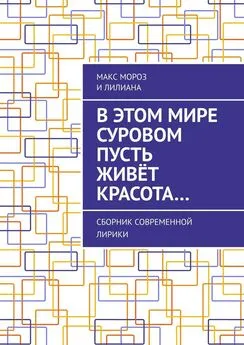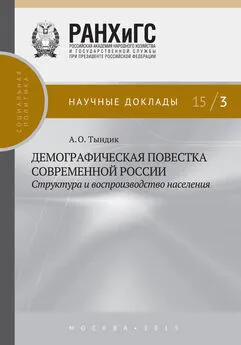Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Название:Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянских культур
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-043
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гуго Фридрих - Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия краткое содержание
Профессор романской филологии Гуго Фридрих (1904—1978) почти всю жизнь проработал во Фрайбургском университете. Его перу принадлежат выдающиеся труды («Классики французского романа», «Монтень», «Структура современной лирики», «Эпохи итальянской лирики» и др.). «Структура современной лирики» наиболее интересна – автор прослеживает пути современной поэзии от Бодлера до середины XX столетия. Ситуация лирики, с середины XIX века отрекшейся от позитивизма, чувств, эмоций, любви, пейзажей и прочего классического ассортимента, оказалась поистине трагичной. Неприятие любой лирической и философской конвенции, все нарастающая алиенация артистов от общества с его проблемами, от реальности – людей, бытия, вещественности, от пространства и времени, от своих читателей, от самих себя, поиски «чистого» абсолюта, прорыв к магии слова – все это радикально развернуло поэзию на 180 градусов, привело к небывалой «условной» выразительности. В терминологии Г. Фридриха лирика Рембо, Малларме, Элиота, Сент-Джон Перса, Унгаретти, Лорки, Алей-хандре, Гильена обретает смысл и обаяние высокого духовного совершенства. По Фридриху, современная блистательная поэтическая плеяда художественно и философски, вместе с живописью и музыкой, обретает себя в недостижимой высоте.
В приложении читатель найдет некоторые трудные стихи на языке оригинала и в переводах Евгения Головина, которые дают представление о том, как сочетаются слова без общепринятого согласования, как функционирует новый язык нового «дикта». Следует отметить необычную композицию заключительного эссе Головина: трудные философские и филологические понятия новой лирики рассматриваются им в изящных фрагментах, отличающихся глубиной и проникновенностью.
Перевод: Евгений Головин
Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У Гарсиа Лорки есть восьмистрочное стихотворение «Cazador» [143] . Оптическое впечатление: четыре голубя устремляются ввысь и падают: «раненные в свои тени», лежат они на земле. В скупом языке события каузальная цепь замещена переменой места (высь – земля), а также невинным «и». На мгновение приближается переживание (раненные), затем отдаляется – ранены всего лишь тени. Причина образной и пространственной модификации подразумевается: выстрел охотника. Начало и конец даны в настоящем времени, хотя оба компонента события занимают разные темпоральные ступени – или должны занимать, если стихотворение имеет какое-то отношение к реальности. Динамическая агрессия фантазии дереализует событие, забирая время и каузальную цепь. Это один из бесчисленных примеров аннигиляции каузальности. «Сегодня надо примириться с простым чередованием объектов», а не ждать привычной каузальности (Готфрид Бенн). Однако встречается и обратный процесс. Строка Эллиота гласит: «Иди, сказала птица, так как листва полна детей». Мнимо каузальная связь в безотносительном: только усилием фантазии можно отыскать во второй половине строки «основу» для призыва птицы. То, что в лирике прошлого было исключением, стало ныне законом. Вот современный парадокс: предметные и событийные отношения можно разрушить устранением каузальных, финальных, адверсативных и прочих связей, и наоборот: отчужденные, враждебные вещи и процессы легко подобными связями объединить. Призрачное царство фантазии.
Стилистическим законом стало также уравнивание наглядного и абстрактного. «Пепел стыда» (Сент-Джон Перс); «колебание улыбается вам» (Готфрид Бенн); «шум увядающих склонностей» (Карл Кролов); «радость и печаль носят свою собственную листву» (Жюль Сюпервьей); «снег забытого» (Томас Элиот).
Фантазия сублимирует видимое или слышимое ирреальными красками, пытаясь отвратить от банальности бытия. «Гиацинтовое молчание» (Георг Тракль); «…руки – нечто раковинное – красно-белое» (Эльза Ласкер-Шюлер); «голубой ужас» (Гарсиа Лорка); «земля голубая словно апельсин» (Элюар). Однако преобладает зеленое (как это было в литературе барокко). Пабло Неруда, к примеру, назвал в 1935 году основанный журнал «Caballo verde para la poesía» [144] . «Зеленая тишина разбитых гитар» (Диэго); «твои волосы, зеленые от влажных звезд» (Хименес); «зеленое солнце, зеленое золото» (Сент-Джон Перс); «die Zeit vergeht grün und heidnisch» [145] (Карл Кролов; «grün» употреблено и как наречие, и как прилагательное); «зеленые пурпурные глаза» (Георг Тракль); «зеленые стружки созвездий» (Готфрид Бенн; эта метафора, несмотря на свою анормальность, действует успокоительней, нежели – «полая кромка созвездий»; к первой, при всей отчужденности компонентов, есть возможность приближения, разумеется, в зоне языка). Вспоминается, конечно, доминанта зеленого в «Сомнамбулическом романсе» Гарсиа Лорки. Там, правда, «зеленое» не цветовой атрибут, а субстанция, которая, проникая из неведомого, эпидемически распространяется. Следует еще отметить употребление парадоксальных эпитетов: они не уточняют и не украшают субстантив, но, скорее, отчуждают: «золотой стон» (Ласкер-Шюлер); «белое продолжение» (Гильен); «шуршащее солнце» (Висенте Алейхандре).
Техника смещений и метафор
У Рембо мы отметили композиционный прием, названный нами техникой смещений. Это активно применяется и в лирике XX века. В позднем стихотворении Рильке «Голуби» помимо слов – кстати, весьма абстрагированных, непосредственно относящихся к птицам, – встречаются и такие, например: отблеск лампады, ладан, жертва, сосуд, священник. Это не сравнения и не метафоры. Это смещение вокабуляра иной области в явление голубей. У Гарсиа Лорки читаем: «Тащится черная лошадь через глубокий путь гитары». У него же есть поэма, разделенная на одиннадцать озаглавленных частей, под общим названием «Лес часовых механизмов». Поначалу кажется, что через поэму проходит сквозная метафора (лес – часовые механизмы, и наоборот), однако затем предлагается тотальная диффузия той и другой данности, причем метафорическое окружение (лес) обретает предметность, свойственную часовым механизмам: «тикающие листья», «заросли звонков», «дикий лес – чудовищный паук, плетущий сонорную сеть для надежды». Мастер такой техники – Х. Диэго. В его «Insomnio» [146] нарратор обращается к спящей. Спящая и море образуют ирреальное единство. Нарратор постепенно входит в это единство, собственные слова из круга морских представлений – остров, утесы – завораживают его. В другом стихотворении бурный поток и человеческая фигура сливаются до неразличимости. Здесь нет смысла говорить о метафоре. Скрытое в метафоре сравнение тяготеет к полной равноценности.
Но даже там, где метафора напоминает о своей традиционной функции – сравнении, даже там произошла резкая перемена: нечто, выдающее себя за сравнение – в тоне и структуре метафоры, – фактически есть полное неравенство. Метафора стала эффективным стилистическим средством для беспредельной фантазии современного дикта. С давних пор она способствует поэтическому изменению мира. Ортега-и-Гассет однажды писал: «Метафора – самая великая сила, присущая человеку. Она граничит с волшебством, она подобна инструменту творения, который создатель забыл в душе созданного: так, рассеянный хирург оставляет скальпель в теле пациента». Однако такому воззрению противоречит распространенное мнение: метафора, прежде всего, открывает еще не замеченное сходство меж двумя данностями, она стимулирует познание, а в остальном метафора – лишь не собственное обозначение, используемое наряду с обозначением собственным. Это мнение справедливо для освоенной области метафорического языка. Но более глубокий рейд в страну поэзии дает иной результат. Изучение литературы барокко, и особенно современной лирики, позволяет обнаружить иную функцию метафоры. В метафоре уже не ищут подобия какой-либо данности, но усиливают с ее помощью центробежные тенденции. Современная метафора не хочет сводить неизвестное к известному. Она совершает высокий прыжок от различия своих компонентов к единству, достижимому только в языковом эксперименте, она акцентирует крайнюю экстремальность различий, дабы их поэтически уничтожить. Если стихотворение движется в заданной образной сфере, оно попутно творит другой, чуждый образный слой: это делается не для ценности эффекта, но для жесткости конфликта инородных образных систем. Современная лирика, используя свойство метафоры соединять нечто близкое и нечто дальнее, развивает ошеломляющие комбинации в превращениях разумно далекого в абсолютно далекое, игнорируя фактическую или даже мыслимо логическую последовательность. Гораздо энергичней, нежели в классической литературе, утверждается в современных текстах специфичность, незаменимость метафорического «несобственного» обозначения: это необходимо лирике, для которой первичен язык, а не мировые перипетии. С помощью таких метафор создается контрмир – в оппозицию не только обычной действительности, но и миру традиционной (и счастливой) поэзии. Во многих случаях современная метафора вообще не является «образом» подле «действительности»: она сама устраняет различие между метафорическим и не-метафорическим языком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: