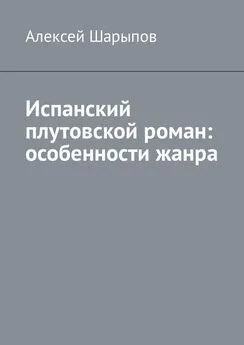Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первая попытка создания «Русского Жилблаза» принадлежала Нарежному, но, как и во всех сочинениях этого автора, истинность изображения страдает от грубости и резких красок. Также и «умерший Выжигин», по сути дела, был никем иным, как своего рода Жиль Бласом, но не стоит снова ворошить его прах. Новый «Жиль Блас» Симоновского, к сожалению, не лучше своих предшественников. Издатель извиняет это ранней смертью автора, но в действительности неудовлетворительность обоснована уже ограниченностью такого рода описаний нравов.
Второй вид романа, в честь Ричардсона и Филдинга названный «английским», гораздо менее связан с национальной средой и имел ещё больше подражателей. В нём человеческая природа предстаёт облачённой в костюм соответствующих нации и времени в форме «биографии сердца». Но и она показывает только отдельные ситуации и сцены, не достигает «органического» единства и остаётся без «электрического» движения, которое и составляют содержание настоящего романа, как и настоящую жизнь. Поэтому она, несмотря на свою «чувствительность», производила впечатление такой сухости, была, несмотря на тепло семейных отношений, столь холодна, особенно у моралиста Ричардсона, но и у остроумного Филдинга и подражателей, комбинировавших оба начала. К этой «уже израсходованной и устаревшей форме» описания нравов относится также «семейство Холмских». Как и «Русский Жиль Блас» Симоновского, книга ни в коей мере не отвечает «современным требованиям», и можно только надеяться, что такого рода литература вскоре вообще прекратит появляться.
Если сравнить эту рецензию с вышедшими в том же журнале лишь годом раньше полемическими статьями вокруг «Выжигина» и возражениями в «Северной Пчеле», превращавшимися в личную перебранку, то бросается в глаза дистанция, с которой характеризуется знание общеевропейского наследия и способность, основываясь на этом знании, оценить отдельное произведение с точки зрения типа романа и его в контексте традиции. В этом смысле рецензия на два произведения, полностью незначительные не только с русской, но и с общеевропейской точки зрения представляет собой одну из наиболее достойных внимания современных попыток литературно-исторической оценки «романа нравов» в его обоих формах, тогда наиболее характерных. Во-первых, показано, что в произведениях Нарежного, Булгарина и Симоновского пересекаются два типа романа, развитие которых характеризуется с момента их возникновения, чьё своеобразие верно описывается, а их ограничение критикуется с помощью аргументов, большей частью обоснованных.
Эта критика, однако, по меньшей мере настолько же является и ценным документом своего времени, благодаря своему собственному ограничению, собственному представлению об идеальном романе, который, несомненно, сформирован только воздействием исторического романа. Исключительность, с которой тип романа, ориентированный на Скотта, возводился в единственно действительный масштаб всех романов, хотя и обостряет понимание слабостей других типов романа, но не признаёт также возможностей романа, лежащих вне границ его специфически «исторического» выражения. Так, например, в обычно весьма искусной характеристике «испанского» типа, т. е. плутовского романа, не замечается конститутивный для него, но для исторического романа несущественный признак формы первого лица. Ещё отчётливее проявляются пределы в предполагающемся как само собой разумеющееся с самого начала ограничении романа изображением минувших времён, в то время как осмысление современности исключается.
В дискуссии вокруг «Выжигина» эта рецензия характеризует переход от прямой полемики к историко-критическому рассмотрению. Успешную книгу Булгарина можно рассматривать как окончательно «умершую». Хотя после её появления прошло только два года, расстояние ощущается уже как столь большое, что связанная с ситуацией, страстная агрессивность уступает место снисходительному игнорированию (в котором, правда, нет недостатка в насмешливой злобности) и исторической классификации. «Устаревшим» более не представляется просто произведение Булгарина – речь идёт о типе «сатирического и нравоописательного» романа вообще, который, как кажется, окончательно преодолён новым, «историческим».
Но абсолютное господство исторического романа в стиле Скотта уже через несколько лет пошло в России на убыль. В то же время роман терял значение по сравнению с новеллой или рассказом. В 1835 г. Белинский пишет, что, хотя роман и повесть в настоящее время в России являются однозначно преобладающими литературными формами, но рассказ превосходит собственно роман [985](в 1831–1832 гг. вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, в 1835 г. его «Арабески» и «Миргород»). «Толстые журналы», всё более набиравшие значение в то время и вытеснявшие книжные издания, содействовали формированию склонности к рассказу и «очерку». Около 1840 г. в журналах множатся сетования на «кризис» русского романа, чьё время расцвета отмечалось с 1829 по 1836 годы.
В действительности начало большого русского романа (если не говорить о «Евгении Онегине» Пушкина как о романе в стихах) ещё только непосредственно предстояло. В 1840 г. вышел «Герой нашего времени» Лермонтова, в 1842-м – первая часть «Мёртвых душ» Гоголя. Но характерно, что оба романа очень решительно противоречат точке зрения, сформулированной в 1832 г. в «Телескопе» и разделявшейся тогда многими, в соответствии с которой роман может изображать только прежние времена. Произведение Лермонтова, собственно, скорее цикл связанных друг с другом рассказов, чем целостный роман, подчёркивало уже самим своим названием, что задачей автора было изобразить современников. И «Мёртвые души» Гоголя, которые автор назвал не «романом», а «поэмой», дали сатирическую панораму образов этих современников. Оба не являются более «историческими романами» в соответствии с узким определением 30-х гг.; оба, даже если совсем по– другому, чем раньше, «описывают нравы». А поэма Гоголя представляет собой великолепное переоформление и оживление сатирического романа.
Тем самым непроизвольно изменяется оценка современниками предшествовавшего «сатирически-нравоописательного» романа в целом и «Выжигина» в особенности. Правда, созданная Булгариным «сатирическая панорама» оказывается при сопоставлении с «Мёртвыми душами» совсем уж устаревшей, но и его прежний антагонист, «Юрий Милославский» Загоскина, и другие подражания Скотту не являются более существенно важным образцом. С дистанции, вызванной превосходством, они оцениваются в лучшем случае как необходимые промежуточные ступени и открыватели новых путей. Но с этой точки зрения следует признать и за «Выжигиным», что он удовлетворил существовавшую в своё время читательскую потребность и, будучи бестселлером, во-первых, направил внимание всей читающей публики на русский роман, проложив тем самым путь последующим отечественным романистам. Это признавал даже столь страстный противник Булгарина и столь страстный почитатель «исторического романа», как ведущий критик того времени Белинский.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)