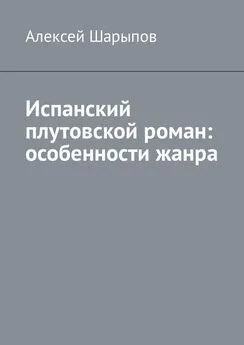Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобно воздействию на производство, «Выжигин» воздействует и на критическую оценку всего типа романа. Оценка сатирического, обрисовывающего нравы романа, которая побудила Булгарина к публикации своего «сатирического нравоописательного романа», претерпела в результате этой публикации стремительный поворот. Но дискуссия вокруг «Выжигина» обостряет взгляд на значение «типа» как такового, так и для контекста традиции. Что внутри России вообще имеется непрерывная передача из поколения в поколение этой литературной формы (которая со своей стороны продолжает или подхватывает западноевропейскую традицию), ясно осознаётся и высказывается современниками только в критическом диспуте вокруг «Выжигина». При этом понимание возрастает от простого установления параллелей «Выжигин» – «Пересмешник» или «Выжигин» – «Русский Жиль Блас» через «родословную» Картуш – Каин – Выжигин – «потомки» Выжигина до многообразного контекста традиции: испанская novela picaresca (плутовской роман. – Исп., прим. пер.) – Лесаж – Филдинг – Жуи с его русским продолжением Измайловым – Нарежный – Булгарин. Но эта непрерывность, ставшая видимой, означает для самого «типа» прежде всего быстро растущее неприятие. Чем очевиднее отдельные произведения осознаются как представители одной и той же традиции, тем радикальнее вся «школа» порицается как неудовлетворительная и устаревшая. Так продолжается, пока и образцы вроде Лесажа и Филдинга, прежде неприкосновенные, не могут более соответствовать «современным требованиям» и отвергаются потому, что воодушевление романом Вальтера Скотта закрывает взгляд на другого рода возможности этого жанра. Поэтому «кризис» подражания Скотту, проявившийся к концу 30-х гг., предстал для большей части современников «кризисом» русского романа вообще. Но когда в начале 40-х гг. русский роман проявился в «Мёртвых душах», превзойдя всё, что было до сих пор, это сочинение не являлось подражанием Скотту. Оно, скорее, находится в отношении свободного преемства с романами Лесажа, Филдинга или Стерна, ещё недавно отвергавшимися русскими критиками. Сколь мало допустимо толковать роман Гоголя просто как критику русского общества, как сатирическую картину его времени, столь же неоспоримо речь идёт здесь не об «изображении минувших времён», а о художественной полемике с современными людьми как с воплощением человеческого вообще. Перед нами критическое рассмотрение, которое одним уже фактом своего появления новым, убедительным способом подтвердило сохраняющиеся литературные возможности сатирического романа.
Заключение
Не намереваясь свести воедино все результаты работы, в заключение можно подчеркнуть следующие моменты, особенно характерные для истории плутовского романа в России.
О переводах западноевропейских плутовских романов
Западноевропейский плутовской роман был позаимствован в России в тот момент (первый перевод «Жиль Бласа» в 1754 г.), когда печать романов как раз только начала там распространяться. Плутовской роман с самого начала был одним из наиболее популярных типов романа («Жиль Блас» наряду с «Телемаком» – больше всего печатавшийся переводной роман в XVIII столетии, вскоре после него «Хромой бес» и др.). Он действовал в первую очередь не как противоположность рыцарскому роману, но прежде всего как идеал романа вообще и как застрельщик формы романа вопреки сопротивлению русских классицистических поэтов.
С точки зрения западноевропейского литературного развития заимствование произошло очень поздно, и предшествующие стадии, включая представителей западноевропейского романа, удалось «нагнать» в очень краткое время. Поэтому усвоение и популярность плутовского романа в России пересеклось, с одной стороны с тем относительно старым типом романа («Амадис» и его школа, «Телемак» и его подражатели и др.), с другой, с тем «современным», как и «чувствительным» романа (Ричардсон, Руссо, Гёте и др.) и даже «исторического» романа Вальтера Скотта. Это влияло на выбор переводов, понимание типа плутовского романа и прежде всего на характер подражания.
Среди всех переведённых в России плутовских романов однозначно доминировал с точки зрения временного приоритета и популярности «Жиль Блас» (в соответствии с заимствованием плутовского романа в XVIII в. и тогдашней ориентацией русской литературы на французский образец). В первое время переводились вообще лишь плутовские романы, написанные или обработанные Лесажем (1754 г. «Жиль Блас», 1763 г. «Бакалавр» и «Хромой бес», 1765 «Эстеванильо»). Только после первых русских попыток в этом жанре (и появления чувствительного романа около 1770 г.) последовали, с одной стороны, «Ласарильо» (1775, по французскому оригиналу) и «Гусман» (1785, по обработке Лесажа), с другой стороны, англичане (причём только молодые, а именно «Джонатан Уайлд» 1772 и «Родерик Рэндом» 1788). И вплоть до XIX в. «Жиль Блас» оставался для России признанным образцом, наиболее частым предметом подражания.
Следовательно, переводились не все репрезентативные произведения западноевропейского плутовского романа. (Отсутствовал подчёркнуто христианский вариант, так как «Гусман» был позаимствован в обработке Лесажа; не было главного представителя барочной фазы, «Бускон» Кеведо; не появилась «Молль Флендерс», как и вообще разновидность с главной героиней (только с помощью вставок в «Жиль Бласе», но не в виде самостоятельного романа). Несмотря на эти пробелы, оставалась широкая шкала вариаций. Известен был как строго линейный композиционный тип, ограниченный единственной исповедью плута, так и более сложные, со вставленными другими рассказами от первого лица и стилистически иными вставками. Знали очень различные варианты «плута» (даже если учитывать только главных героев, а не второстепенные персонажи): подлинный «Picaro» (плут. – Исп., прим. пер.) (в вариантах Ласарильо и Гусмана), как и их изменения, с одной стороны, чистые преступники (Уайлд, Картуш), с другой – «возвышенный тип» плутовского авантюриста (Жиль Блас, Родерик Рэндом). При этом правда, очевидно преобладал «возвышенный тип» с соответствующей ему, ведущей всё выше вверх социальной шкалой, ослаблением контрастного действия, обретённого из специфической «перспективы Я» плута и постепенного отступления типичного плутовства в пользу детального «описания нравов» и (отчасти уже заметно окрашенной «чувствительными» тонами) «романской» авантюры.
О главных произведениях и этапах развития плутовского романа в России
Первой попыткой был «Пересмешник» M. Чулкова (1766 и сл.). Он представлял собой не подражание определённому сочинению или плутовскому роману как таковому, а самостоятельную комбинацию трёх особенно популярных тогда в России крупных форм беллетристической прозы: плутовского романа, рыцарского романа и сборника сказок (особенно «1001 ночи»). Плутовскому роману соответствовали рамка (с рассказчиком от первого лица Ладоном и вставленным вторым рассказчиком от первого лица) и рассказом Неоха. Чулков применяет здесь почти всю традиционную совокупность второстепенных персонажей, многие из типичных мотивов (начиная с сомнительного происхождения, которое с помощью игры слов превращается в «благородное») и целый ряд характерных техник (рамочная техника исповеди плута, вставка отдельного шванка как мотивированного и мотивирующего элемента действия, «растяжение» шванка как скрепы действия, переход от «напряжения «как»» к «напряжению «есть ли вообще» и др.). При этом он также щедро вмонтировал народный русский материал (собрания шванков, лубок и др.) и трудился над «руссификацией», к которой стремился со всей определённостью (правда, она удалась только в очень небольшой степени). Три главных плутовских персонажа представляют собой последовательное развитие жизни плута: 1. Ладон, хитроумный сын цыганки, в качестве слуги и собеседника превосходящий «знатных особ» природным остроумием и наглостью, но после такого воистину плутовского начала вскоре поблёкший из-за превращения в обрамляющего рассказчика рыцарских историй; 2. «Монах», осиротевший, ребёнком превращённый в «лакея», сбежавший, сотоварищ разбойников, бродяга, нищий и обманщик, беглый монах и т. д., то есть рассказчик о типичной плутовской жизни, рассказ которого остаётся, однако, ограниченным двумя главами; 3. Неох, нищий «студент», аморальный, алчный, умный, в качестве слуги, обманщика, любовника и т. д. странствующий с места на место и поднимающийся до уровня выгодно женившегося доверенного лица своего господина – единственный плут с широко задуманным и детально разработанным Vita (жизнеописанием. – Лат., прим. пер.). В результате перенесения в псевдоисторическое «славянское» прошлое и из-за отсутствия формы от первого лица оно, однако, теряет чёткость. Так были заимствованы многие тематические и формальные элементы плутовского романа, но они остались распылёнными, без превращения целого в плутовской роман.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)