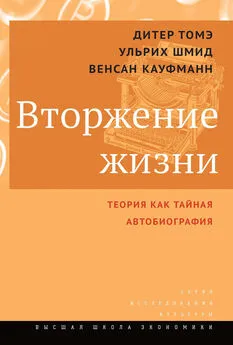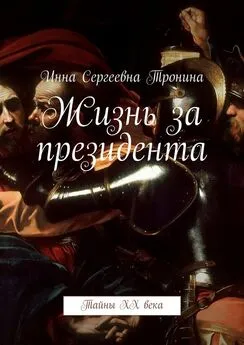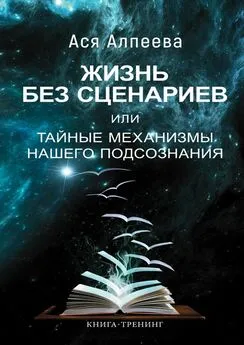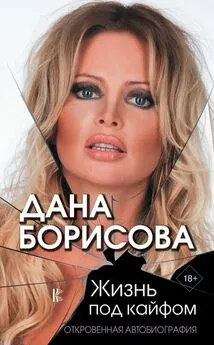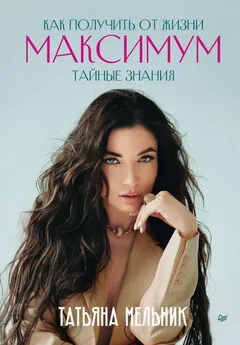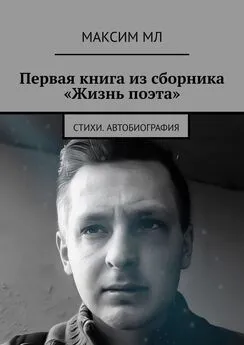Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Название:Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВысшая школа экономики1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1608-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография краткое содержание
Если к классическому габитусу философа традиционно принадлежала сдержанность в демонстрации собственной частной сферы, то в XX веке отношение философов и вообще теоретиков к взаимосвязи публичного и приватного, к своей частной жизни, к жанру автобиографии стало более осмысленным и разнообразным. Данная книга показывает это разнообразие на примере 25 видных теоретиков XX века и исследует не столько соотношение теории с частным существованием каждого из авторов, сколько ее взаимодействие с их представлениями об автобиографии. В книге предложен интересный подход к интеллектуальной истории XX века, который будет полезен и специалисту, и студенту, и просто любознательному читателю.
Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К этой парадоксальной ситуации Бурдьё (в «Правилах искусства») применяет формулу: кто выигрывает – проигрывает, и наоборот. Она могла бы стать и девизом его автобиографии, если бы он таковую написал. Впрочем, в октябре 2000 года вышел его текст с материалами для описания собственного опыта. Но Бурдьё с самого начала своего «Эскиза самоанализа» настаивает на том, что это не автобиография, а «элементы некоторого социологического самоописания». [720]
Такая осторожность показательна. Бурдьё решительно отказывается, как и в своих социологических работах, учитывать собственную личность. Интимность, аффекты или эмоции изображаются не с субъективной точки зрения, а в лучшем случае имеются в виду как образцы поведения индивида Пьера Бурдьё в различных социальных контекстах. «Самоанализ» понимается как «объективирование объективирующего субъекта», как наблюдение за наблюдением, как наблюдение в квадрате. Личное тем самым практически исключается. Конечно, Бурдьё в осуществлении этой научной программы не вполне последователен. Под конец «Эскиза» в него прокрадывается даже моральное понятие «вины», вырывающее исследуемого субъекта из его объективации и вставляющего его в драматический нарратив.
Эта смена жанров тем явственней, что понятие вины возникает на почве самой, наверное, знаменитой биографемы: отношений с отцом. Бурдьё описывает избрание в Коллеж де Франс, совпавшее со смертью отца, как пронизанный виной кризис. Подготовка инаугурационного доклада делает очевидным его глубоко двойственное отношение к академическому миру:
При подготовке лекции я испытал все мои противоречия в наивысшей концентрации: чувство, что я недостоин, что мне нечего сказать такого, что этого бы заслуживало, перед судом, тем единственным, чей вердикт я признавал, это чувство было усугублено виной перед бедолагой-отцом, трагически погибшим незадолго до этого, – в период моего отчаяния в начале 50-х годов я убедил его остаться в нашем старом доме, помог ему перестроить этот дом, стоящий в безответственной близости к дороге национального значения. И хотя я знаю, что он тогда был горд и счастлив, я переживал эту магическую связь между его смертью и вестью о моем успехе, который я теперь воспринимал как самозванство и предательство. Бессонные ночи. [721]
Бурдьё никогда больше не возвращался в текстах к обстоятельствам смерти отца. Но известно, что его мать в 1995 году была перед домом сбита машиной. [722]Вероятно, Бурдьё в этом несколько загадочном сообщении приписывает себе вину за смерть обоих родителей, хотя явно упоминает только отца. Однако он с порога отметает любые способы психологического толкования: всякие намеки на эдипальную ситуацию отвергаются характеристикой «бедолага» (pauvre diable). Вызывающее раскаяние убийство родителя во фрейдистском смысле предполагало бы ситуацию конкуренции между отцом и сыном, но именно о ней и не может идти речи: крестьянин и почтальон, его отец, говоривший на неправильном французском, был столь далек от академических чинов и званий, что едва ли мог хоть приблизительно понять масштабы профессионального успеха сына.
Если упоминание «дороги государственного значения» намекает на фатальное дорожное происшествие, стоившее жизни его матери 14 лет спустя после упомянутых в тексте событий, то в самоанализ Бурдьё встраивает такое частное измерение, которое опознаваемо только читателями, близко знакомыми с его семейной историей. В этом случае вина Бурдьё была бы двойной: по отношению и к отцу, и к матери. Отца он предал, поскольку своим видным положением в (уже и без того) престижном научном сообществе «обесценил» его, свел его к «бедолаге». Тем самым сын предстает держателем определенной символической властной позиции, которая для описания социально деклассированных индивидов уже не способна найти никакой подходящей категории. Вход в Коллеж де Франс оказывается равносилен окончательному выходу из семьи. Возможно, Бурдьё попытался преодолеть эту дистанцию с помощью символического акта, ставшего, однако, возможным только после смерти отца. Книге своих интервью «Сказанные вещи» (1987) он предпослал посвящение «Памяти моего отца». [723]
Но отношение к отцу еще сложнее. С одной стороны, своей внушительной академической карьерой он сверх ожидаемого оправдал самые дерзкие надежды своей матери касательно его образования; с другой – эта карьера была возможна только ценой пространственного, а тем самым и эмоционального разрыва. Поэтому из неупоминания матери в самоанализе не следует делать ложное заключение, будто с ней у Бурдьё были сложные отношения. Видимо, верно как раз обратное: именно потому, что Бурдьё как международно признанный исследователь воплотил материнские упования на общественный успех сына, он был очень близок к ней. «Автодорога государственного значения» выступает в конечном итоге зловещим предзнаменованием того полузабвения-полупренебрежения родительской семьей, которое с необходимостью вызвал исследовательский пыл сына.
Вполне вероятно, что сам Бурдьё признавал в связи с этим эмоциональную, почти эротическую нагруженность науки. Он говорит о libido sciendi, целиком покоряющем исследователя. [724]В своем «самоанализе» он характеризует содержание собственной жизни в молодости как «полную, несколько безумную преданность исследованию». «Чарующе совершенный мир науки» станет для него в известной мере параллельным миром, в котором можно действовать без риска прямого вовлечения. Сходное отношение к интеллектуальному искусственному миру можно найти у Сартра и Зонтаг. Впоследствии Бурдьё, конечно, критикует эту одновременно окрыляющую и подавляющую «двойную жизнь». Радость чистого познания дается ценой дистанцирования от своего предмета исследования. Можно предположить, что общественная ангажированность Бурдьё в 1990-е годы была попыткой искупить, отплатить политической монетой субъективно переживаемую вину перед объектами социологического использования и (зло)употребления. В интервью с Акселем Хоннетом он указал и на автобиографические корни своего скепсиса по отношению к «теоретической установке»:
Эта трудность для меня смотреть свысока на кабильских крестьян, с их свадьбами и прочими ритуалами, коренилась, несомненно, в том, что в детстве меня окружали очень схожие [французские] крестьяне, чьи взгляды на честь и бесчестие были абсолютно теми же, и что я тем самым остро чувствовал искусственный характер моей благоприобретенной объективистской перспективы с птичьего полета <���…>, равно как и искусственность той перспективы, которую мне предоставляли информанты, пытавшиеся – в стремлении играть по правилам, а значит, быть на высоте ситуации, созданной самими этими интервью, – превращаться в теоретиков собственной практики. [725]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: