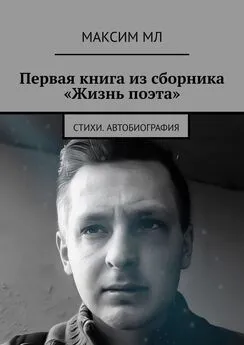Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Название:Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВысшая школа экономики1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1608-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография краткое содержание
Если к классическому габитусу философа традиционно принадлежала сдержанность в демонстрации собственной частной сферы, то в XX веке отношение философов и вообще теоретиков к взаимосвязи публичного и приватного, к своей частной жизни, к жанру автобиографии стало более осмысленным и разнообразным. Данная книга показывает это разнообразие на примере 25 видных теоретиков XX века и исследует не столько соотношение теории с частным существованием каждого из авторов, сколько ее взаимодействие с их представлениями об автобиографии. В книге предложен интересный подход к интеллектуальной истории XX века, который будет полезен и специалисту, и студенту, и просто любознательному читателю.
Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В-третьих, ее уже большей частью опубликованные дневники показывают, что она то и дело заигрывала с жанром автобиографии. Среди прочего там можно найти набросок рассказа о крахе брака с Филипом Рифом и о своих отношениях с Хэриэт Сомерс и Ирэн Форнес. В 1972 году она записывает самые важные темы своей жизни:
Китай.
Женщины.
Выродки (Freaks).
И еще 4-я: организация, гуру.
Три (или четыре) колонии, которыми я управляю и которые эксплуатирую.
Три (или четыре) жилища, которые я могу обставить.
Так я могла бы написать автобиографию. В четырех разделах.
Наконец, в-четвертых, наряду с этими автобиографическими текстами мы встречаем у Зонтаг, можно сказать, неумеренную самопрезентацию в фотографии. Здесь она отбрасывает игру в прятки, в которую играет в текстах. Суперобложки ее книг украшены ее снимками, начиная с книги «Против интерпретации» (1966), где читателю предстает опустившая глаза женщина в контрастном макияже, одновременно застенчивая и самоуверенная. В последних книгах фотографии сделаны ее многолетней подругой Анни Лейбовиц: их можно увидеть на романе «Любовник Вулкана» (1992) и на сборнике эссе «Где падает ударение» [786](2001), а также в книге Лейбовиц «Женщины» (1999), для которого Зонтаг написала текст «Фотография – это никакое не мнение. Или все же да?». «На большинстве фотопортретов он смотрит вниз», – так начинается эссе Зонтаг о Беньямине, [787]и это же можно сказать и о ней. Она стилизует родство душ с Беньямином, меланхоликом, как Леви-Стросс, Дебор и другие герои нашей книги. Она тоже живет «под знаком Сатурна». [788]Личное присутствие Зонтаг (с его апофеозом) в Сараево в 1993 году тем более заметно, что вызывает живейшую реакцию (например, ее «любимого врага» феминистки Камий Палья). Сколь бы скрытной Зонтаг ни была или ни казалась, она очень рано становится медиатичной фигурой и, в частности, выводится в качестве персонажа в рассказе Альфреда Честера «Ступня» (1970) или в образе Элен в романе Филиппа Соллерса «Женщины» (1983) [789](честь эта может быть и весьма сомнительной: у Соллерса все ее книги бросаются в воду).
Амбивалентность Зонтаг касается толкования собственно «авто-» в «автобиографии», собственно «самости». Точнее говоря, таких толкований у нее по меньшей мере три. Зонтаг может подчеркивать (1) свою самость как автора, (2) самопреобразование и (3) самотрансцендирование. Она выступает сначала как младшая сестра Сартра, затем находит избирательное родство с другими авторами, с Бартом и Беньямином, а также – менее явно – с Фуко и Кракауэром. Она экспериментирует с разными стратегиями, колеблется, пребывает в нерешительности. Тем виднее, как одна стратегия сменяется другой.
Первая примененная Зонтаг стратегия родственна сартровской. Это становится особенно ясно, если вернуться к предыстории, к тому, как родилась идея самости как автора. В случае Сартра то была фантазия о всесилии эстетического субъекта; эту детскую фантазию он затем перенес с искусства на жизнь и закончил постулатом свободы экзистенциалистского субъекта. Сходство обстоятельств становления Пулу, т. е. молодого Сартра, и юной Зонтаг поразительно: умерший отец, трудная мать, странный отчим, в обоих случаях детство вундеркиндов. Зонтаг чувствует себя в мире своего детства «чужеродным постояльцем» и (как Сартр в «Словах») болезненно сталкивается с границами этого мира. Ретроспективно она описывает свое детство как тюремный срок. [790]Хотя ребенком она не может сломать эти границы, но ей удается больше их не чувствовать: она просто-напросто вычеркивает свою жизнь и таким образом упраздняет ее границы. Сьюзен удирает, смывается, как и Пулу, в антимир духа. Она живет не в Тусоне (Аризона) и не в Канога-Парке (Калифорния), а «где-то в ином месте», [791]в книгах. Книги дают ей шанс испытать «триумф не быть самой собой». Литература – и музыка – даруют ей «бредоподобное состояние экстаза», «упоения», «обратную сторону моей неудовлетворенности». [792]Позже она найдет этот опыт у Беньямина и процитирует из его «Берлинских хроник» о книгах: «Мы тогда не читали их, нет, мы жили, обитали между их строк». Зонтаг добавляет: «К чтению, к детской мечте добавилось потом письмо, эта одержимость взрослого». [793]Эта одержимость, но и сомнение в ней стали потом большой темой ее дневников. В дневниках за 1959 год она выписывает фразу из Реми де Гурмона: «Писать значит существовать, быть самим собой». Замечание, приписываемое Флоренс Найтингейл: «Письмо есть лишь эрзац жизни», – она заносит в дневник в 1970 году. Не раз – сначала в «Возрожденной», потом в «Я пишу, чтобы понять, что я думаю», в «О чем речь?» – она задается вопросом: «Должна ли я быть тем, что я пишу? не больше? не меньше? Но каждый писатель знает, что это не так».
Свою учебу и ранний брак с Филипом Рифом она также изображает как жизненную форму, зиждящуюся на полном отождествлении с неким духовным миром: их брак покоился на «пьянящей дружбе и непрестанном трепе», он был педагогической институцией, в известной мере дополнявшей обучение (в той или иной форме «западноевропейскому канону») в Чикагском университете (в частности, у Лео Штрауса). Вытекавшее из этого подчинение телесного духовному принимает порой комические формы: «Даже когда мне хотелось в туалет, я сдерживалась через силу (и боль), я не хотела прерываться или перебивать его [Филипа]; не прекращая разговора, он следовал за мной в ванную». [794]
Духовные эксцессы контрастируют со все более нормализующейся и стабилизирующейся жизнью. Ранние годы Зонтаг прошли под знаком своеобразного переворачивания отношений между жизнью и искусством или духовной жизнью вообще: жизнь представала как нечто мертвое, а литература – как единственное место, где она чувствовала, что живет. За настоящие занятия сходили только чтение и письмо. Но это смещение, объявлявшее жизнь мертвой и предпочитавшее ей безжизненное искусство, будет отменено в определенный биографический момент – в момент решения развестись с мужем и переехать в Оксфорд, а затем в Париж. Зонтаг перенимает у Сартра право не только на эстетическую, но и на реальную свободу, отождествляет свою самость с «автором» и трактует эмансипацию субъекта как авторскую прерогативу. Ключевую фразу для объяснения решения о разводе «Когда-то нужно выбирать между жизнью и проектом» она заимствует прямиком из словаря экзистенциалистов, [795]если не из Уильяма Батлера Йейтса. [796]По сути, противоречие между искусством и жизнью разрешается в альтернативу двух способов жить. Зонтаг заостряет ее до вопроса, следует ли «быть» жизнью или «лишь населять» ее. [797]
Она культивирует «фантазию о том, как родить самого себя» и о новом начале как «возрождении». [798]В дневнике Зонтаг отмечает: «В Милане я спросила у К.: „Разве ты не видишь, что сама создаешь свою жизнь?“ Она ответила, что это не так». Ее сценарий возрождения близок арендтовской идее «начала» как Gebtirtlichkeit, помещающейся между хайдеггеровским «проектом» и сартровской «свободой». [799]Зонтаг подкрепляет этот «акт о самосоздании» автобиографическими ссылками на свою американскую идентичность, которая как раз тесно связана с идеей жизни как проекта. Она причисляет себя к «self-made people»: «Состояние духа пионера – самое лучшее». [800]Такой американизированной версией сартровского понятия свободы она одним махом превращает Ральфа Уолдо Эмерсона в экзистенциалиста.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: