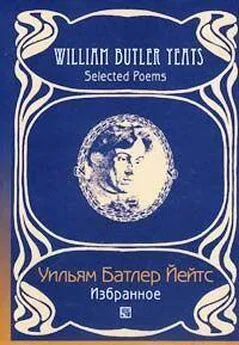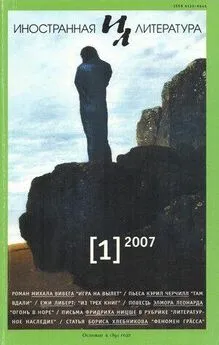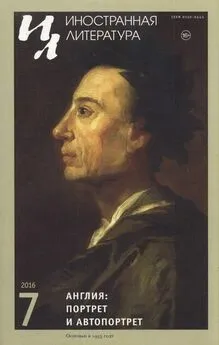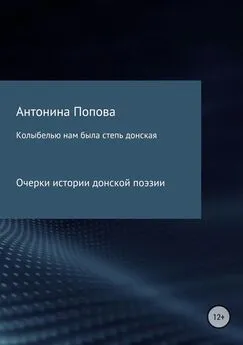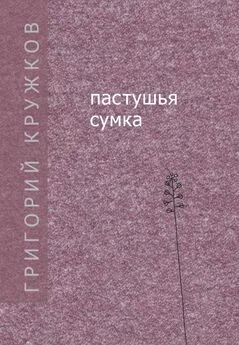Григорий Кружков - Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2
- Название:Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентПрогресс-Традицияc78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-449-9, 978-5-89826-451-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Кружков - Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2 краткое содержание
Второй том «Очерков по истории английской поэзии» посвящен, главным образом, английским поэтам романтической и викторианской эпох, то есть XIX века. Знаменитые имена соседствуют со сравнительно малоизвестными. Так рядом со статьями о Вордсворте и Китсе помещена обширная статья о Джоне Клэре, одаренном поэте-крестьянине, закончившем свою трагическую жизнь в приюте для умалишенных. Рядом со статьями о Теннисоне, Браунинге и Хопкинсе – очерк о Клубе рифмачей, декадентском кружке лондонских поэтов 1890-х годов, объединявшем У.Б. Йейтса, Артура Симонса, Эрнста Даусона, Лайонела Джонсона и др. Отдельная часть книги рассказывает о классиках нонсенса – Эдварде Лире, Льюисе Кэрролле и Герберте Честертоне. Другие очерки рассказывают о поэзии прерафаэлитов, об Э. Хаусмане и Р. Киплинге, а также о поэтах XX века: Роберте Грейвзе, певце Белой Богини, и Уинстене Хью Одене. Сквозной темой книги можно считать романтическую линию английской поэзии – от Уильяма Блейка до «последнего романтика» Йейтса и дальше. Как и в первом томе, очерки иллюстрируются переводами стихов, выполненными автором.
Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Башня. Суперобложка. СтёрджМур, 1928 г.
Впрочем, суть стихотворения, конечно, не в этом. И не в наступлении дурных времен, и не в стихии буйства, овладевшей ослепленными враждой людьми. А в том, что «стена ветшает» и что трещина, как всегда, проходит через сердце поэта. Ибо он – одновременно – и эта старая стена, и улетевший скворец, и опустевшее гнездо; и его молитва, четырехкратно повторенная, – о хотя бы одной капле меда, которая могла бы подсластить эту горечь.
Стена ветшает… Пчелы-медуницы,
Постройте дом в пустом гнезде скворца!
На исходе лета Йейтсу повсюду стал мерещиться запах меда – там, где заведомо не было никакого меда – на ветреном повороте дороги, в глухом конце каменного перехода. Конечно, расстарались его вездесущие духи. Они всегда являлись, чтобы дать ему новые образы для стихов. В данном случае, образ, конечно, старый, многозначный.
Мед поэзии, о котором говорится в кельтских сагах, – мед Золотого века, капающий с деревьев у Гесиода, – мед зачатий, о котором Йейтс выведал из книги Порфирия о пещере нимф, – медовый запах детских волос. Тем летом у Йейтса было уже двое детей: трехлетняя Энн и Майкл, которому в августе исполнился год.
Последнее стихотворение цикла озаглавлено, в особенности по контрасту с предыдущими простыми названиями, длинно и вычурно: «Передо мной проходят образы ненависти, сердечной полноты и грядущего опустошения». Такие длинные названия, пахнущие старинной антологией, Йейтс любил употреблять время от времени. Но еще больше, чем английский ренессанс, такой заголовок напоминает о древнекитайской лирике, например: «Пишу, поднявшись на башенку в доме господина Пэй Ди» (Ван Вэй). Эти западно-восточные ассоциации как бы стирают границы горизонта, придают стихотворению универсальный характер.
С покупкой башни Йейтс (не забудем, что он был основателем и режиссером дублинского Театра Аббатства) получил в свое распоряжение идеальную декорацию: в этих стенах он мог воображать себя средневековым рыцарем, ученым затворником или алхимиком; поднявшись на верхнюю площадку – астрологом или вавилонским магом. Строка: «Никакие пророчества вавилонских календарей…» – цитата из Горация, его знаменитых стихов (Оды I, 11): «Не спрашивай, не должно знать о том, когда боги пошлют нам конец, Левконоя, и не пытай вавилонских таблиц…»; имеются в виду астрологические таблицы, составлявшиеся халдейскими жрецами.
Итак, в первой строфе Йейтс, как древний восточный поэт или астролог, восходит на башню и, всматриваясь в туманную пелену туч, провидит за ними «странные грезы», «страшные образы». Трех-частная структура заглавия неожиданно возвращает нас к концовке «Плавания в Византию» – о Золотой птице, назначение которой было будить сонного императора (снова вспомним waking witsl) –
И с древа золотого петь живущим
О прошлом, настоящем и грядущем.
Последующие три строфы седьмой части «Размышлений…» – три грезы, столь несхожие между собой, – можно воспринимать как три песни Золотой птицы. Но лишь последняя из них – определенно и однозначно о будущем (строфа о «грядущем опустошении»). В первых же двух прошлое и настоящее смешивается. В строфе о мстителях – смешивается самым зловещим образом. В комментарии Йейтса об этом говорится:
Во второй строфе седьмого стихотворения встречаются слова: «Отмщенье убийцам Жака Моле!» Призыв к мщению за убитого Великого Магистра тамплиеров кажется мне подходящим символом для тех, чье рвение исходит из ненависти и почти всегда бесплодно. Говорят, что эта идея была воспринята некоторыми масонскими ложами восемнадцатого века и в дальнейшем питала классовую ненависть.
Конная скачка мстителей, которую рисует Йейтс, во многом, вплоть до деталей, похожа на уже описанную им скачку демонов в «Тысяча девятьсот девятнадцатом». Это то же самое неуправляемое и заразительное, опьяняющее буйство.
Здесь можно снова вспомнить Максимилиана Волошина, чьи мысли в годы русской смуты шли во многом параллельно мыслям Йейтса. В замечательной статье «Пророки и мстители», написанной еще в 1906 году, по следам первой русской революции, он посвящает несколько страниц легенде о мести тамплиеров. Приведем отрывки из этой работы. Он заканчивает статью пророческим монологом «Ангел Мщенья» – апокалипсическим видением того, что буквально совершится в России через двенадцать лет.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.
Как и в «Тысяча девятьсот девятнадцатом», Йейтс выстраивает композицию по принципу контраста ужасного и прекрасного. Вслед за «демонской» строфой идет строфа «райская»: сад, где «белые единороги катают прекрасных дам», находится вне времени и пространства – на том блаженном острове, который поэт искал всю жизнь, начиная с юношеской поэмы «Плавание Ойсина».
За строфой о единорогах следует другая: о равнодушной толпе, которой чужды и любовь, и ненависть – любые стремления, кроме рациональных и практических. Любопытно, что к «бронзовым ястребам» Йейтс делает примечание: «…я вставил в четвертую строфу ястребов, потому что у меня есть перстень с ястребом и бабочкой, которые символизируют прямолинейность логики и причудливый путь интуиции: «Но мудрость бабочке сродни, а не угрюмой хищной птице».
Таково авторское объяснение. Но после опыта Второй мировой войны перспектива сдвинулась, и образ «крыльев бесчисленных, заслонивших луну», вызывает у нас другие ассоциации. Такой, наверное, была туча самолетов «люфтваффе» шириной в восемь километров, глубиной в шесть, летевшая бомбить Англию в 1940 году.
«Равнодушие толпы» и «бронзовые ястребы» у Йейтса идут через запятую, как однородные члены – или как две стороны одного и того же. То и другое питается пустотой, приходящей на смену «сердечной полноте» – грезам, восторгам, негодованию, печали по прошлому. Таков приговор поэта наступающим временам.
В стихотворении используется и принцип закольцовывания. «Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены…» – «Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз…» (пробуждение и отрезвление).
Здесь нельзя не увидеть сходства с «Одой к Соловью» Китса, которая тоже начинается с поэтического опьянения, с песни соловья, уносящего поэта в мир грез.
«Прощай! Фантазия, в конце концов, / Навечно нас не может обмануть», – восклицает в последней строфе поэт, возвратившись к самому себе, к своей тоске и одиночеству.
«О честолюбивое сердце мое, ответь», – вопрошает Йейтс, – не лучше ли нам было заняться чем-то более понятным для людей? Это прямой диалог с одой Китса – после уже обозначенных в цикле подсказок: «aching heart» и «waking wits». Напомним, «Ода к Соловью» кончается вопросом: «Do I wake or sleep?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: