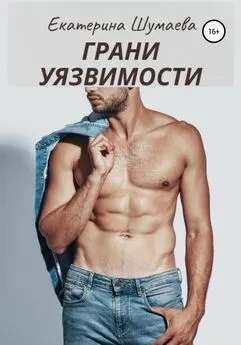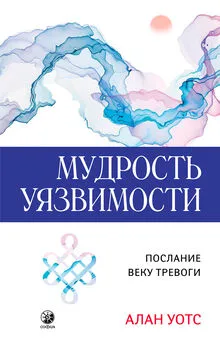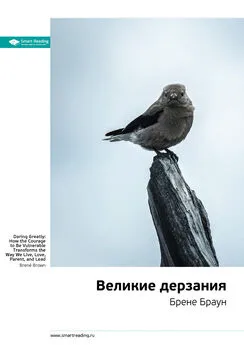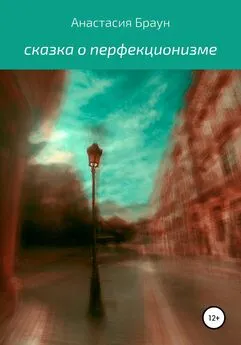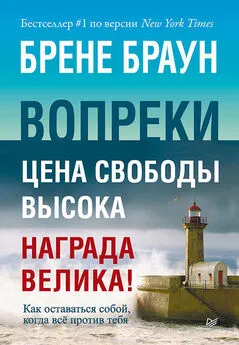Брене Браун - Все из-за меня (но это не так). Правда о перфекционизме, несовершенстве и силе уязвимости
- Название:Все из-за меня (но это не так). Правда о перфекционизме, несовершенстве и силе уязвимости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-07972-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брене Браун - Все из-за меня (но это не так). Правда о перфекционизме, несовершенстве и силе уязвимости краткое содержание
Стратегии, разработанные автором этой книги, выдающимся американским психологом Брене Браун, помогают распознать наши внутренние источники неуверенности, освоить приемы психологической самозащиты и научиться жить легче и радостней.
Все из-за меня (но это не так). Правда о перфекционизме, несовершенстве и силе уязвимости - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Старение
Недавно на семинаре я спросила, не хочет ли кто-нибудь поделиться своим опытом и рассказать о том, как выполнил упражнение с «кнопками», включающими стыд. Одна женщина подняла руку и сказала: «Я посмотрела на свои факторы стыда и поняла, что мне больно не оттого, что я старею, а оттого, что я действительно верю во все мифы о себе, о моих возможностях и моем теле. Я не думаю, что мое тело меня предает. Это мои стереотипы меня предают».
Участницы исследования, говорившие о возрасте, отмечали, что сила стереотипов о старении гораздо болезненнее, чем сам процесс старения. Отчасти это происходит из-за того, что стереотипы о старении пропитывают все стороны американской жизни. Марти Каплан, медиааналитик и заместитель декана Института коммуникации Анненберг при Университете Южной Калифорнии, сообщает, что рекламодатели и создатели телевизионных программ не заинтересованы в мужчинах и женщинах старше пятидесяти. Она объясняет: «На самом деле некоторые из создателей программ резко не расположены к людям старше пятидесяти. Если статистика показывает, что ваше шоу смотрит именно эта демографическая группа, рекламодатели реагируют на это, как клопы на дихлофос».
Таковы были комментарии доктора Каплан в сюжете передачи «Воскресное утро» («Sunday Morning») на канале CBS.
Самая ценная демографическая группа – от 18 до 49 лет, это наилучшая целевая аудитория для воздействия маркетинговых и рекламных механизмов в Америке. Значение этого сегмента подчеркивается и в рекламе AARP [21], в которой говорится: «Доктор еще не констатировал вашу смерть, а рынок – уже да».
Рассмотрим же некоторые негативные стереотипы, касающиеся возраста и тех черт характера, которые с ним связывают люди [40].
• Унылые – боязливые, подавленные, безнадежные, одинокие, заброшенные.
• Уединившиеся – наивные, тихие, робкие.
• Сварливые/ворчливые – язвительные, жалующиеся, негибкие, требовательные, предубежденные, пронырливые, упрямые.
• Ограниченно дееспособные – зависимые, хрупкие, медленно двигающиеся, быстро устающие.
• Недееспособные – хилые, с бессвязной речью, косноязычные, дряхлые.
• Уязвимые – пугливые, скучающие, неэмоциональные, ипохондрические, скупые, подозрительные, потенциальные жертвы.
Теперь посмотрим на четыре позитивных стереотипа, выявленные тем же исследованием.
• «Золотые годы»: активные, полные сил, самостоятельные, жизнерадостные, общительные, здоровые.
• «Мировой дедушка/мировая бабушка»: веселые, благодарные, счастливые, любящие, мудрые.
• «Крепкое старое дерево»: экономные, приверженные традициям, выносливые.
• «Хранители традиций»: эмоциональные, ностальгирующие, патриотичные, религиозные.
С первого взгляда трудно отрицать, что эти характеристики могут напоминать кого-то из наших знакомых. Это и делает стереотипы такими опасными. Они так хорошо подходят к окружающим нас людям, что мы разрешаем себе не обращать внимания на все, что отклоняется от этого образа. Если мы считаем женщину, живущую напротив, «мировой бабушкой», мы можем не заметить у нее синяков и отметин от побоев; более того, она может так стараться соответствовать нашим ожиданиям, что никогда нам не расскажет о своих проблемах. Когда нам нужно, чтобы наш отец оставался «хранителем традиций» и жил согласно своему образу «крепкого орешка», он может постыдиться поделиться с нами своими опасениями или слабыми местами. Или мы можем купиться на стереотип счастливой «золотой» бабушки и думать, что она не возражает, чтобы ее воспринимали как аттракцион.
• Мои дети и внуки просят меня: «Ба, а ба, станцуй нам!» Не потому, что я хорошо танцую, а потому, что они смотрят и смеются надо мной. Иногда, если я пойду по кругу, они кричат: «Давай, ба, давай, гоу-гоу!» Это неприятно. Мне стыдно, потому что им нравится смеяться надо мной. Они видят во мне старуху-клоуна. Я – «их бабуля», а не настоящая женщина со своими чувствами, не талантливая и интересная личность. Мне стыдно, что меня это так задевает. Я знаю, они меня очень любят; но иногда они совсем бесчувственные.
Стереотипы – это формы обвинения и упрощения, два базовых ингредиента, из которых слагается стыд. Если мы хотим уйти от обвинения к связи и сочувствию, мы должны работать и вдумываться в то, как, когда и зачем мы используем стереотипы.
Переживание травмы
В предыдущей главе мы выяснили, что многие из установок, которые ведут к стыду, связаны с совершенством. Но когда речь идет о переживании травмы, стереотипы основаны на несовершенстве, на клейме, стигме, связанной с нанесенным человеку вредом или постоянной раной, и обвинении в том, что человек сам каким-то образом виноват в полученной травме.
Когда я говорила с женщинами о переживании травмы и излечении ее, я узнала, что общественные ожидания и стереотипы, касающиеся травмы, заставляют женщин иметь дело с двумя отдельными проблемами: как пережить само событие и как пережить стыд, который мы наваливаем поверх него, используя стереотипы, обесценивая их переживания и определяя, какими они стали в результате травмы. Когда я говорю, что мы обесцениваем их переживания, я имею в виду самые разные вещи, от использования стереотипов до вопросов вроде «Это правда было так ужасно?» или «Что ты с ним делала?». Вместо того чтобы выслушать и попытаться понять, мы сводим на нет и преуменьшаем их опыт.
С помощью стереотипов мы не только обесцениваем переживания, но и рисуем образ человека, пережившего травму. Многие из нас впитали непререкаемые понятия о том, как люди могут или не могут переживать травмирующие события. Недавно я читала лекцию в одном женском профессиональном объединении. Пришло время подписывать книги. Ко мне подошла женщина и положила на стол четыре мои книги. По ее лицу катились слезы. Она сказала: «Одну книгу мне, остальные – сестре и двум ее дочерям. Мою племянницу несколько месяцев назад изнасиловали в колледже». Дама глубоко вздохнула и добавила: «Она была такая умница, такая красавица. Вся жизнь была впереди…»
Сначала я как-то не сообразила и подумала: «Какой кошмар, ее убили». Потом до меня дошло, что книгу-то я подписываю для нее. Ее тетя имела в виду, что она была красавица и умница до того, как ее изнасиловали. Серьезно сомневаюсь, что эта женщина, стоя передо мной в слезах и рассказывая на людях о своей племяннице, соображала, что она несет и какой это стыд для девочки.
Мы все склонны к подобным обобщениям и суждениям. Сколько раз мы слышали или думали: «Она никогда не будет прежней» или «Теперь она навсегда сломлена»? Мы также можем пытаться использовать наше знание о чьей-то травме, чтобы объяснять его/ее поведение. Прекрасный пример – история Алисии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
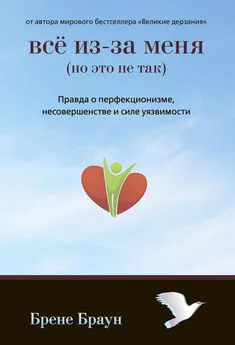
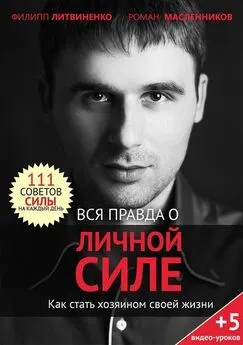
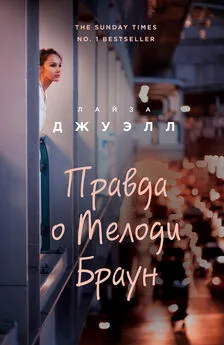
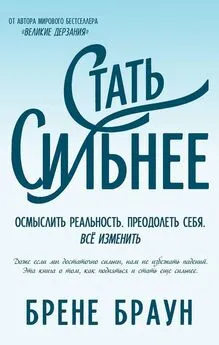
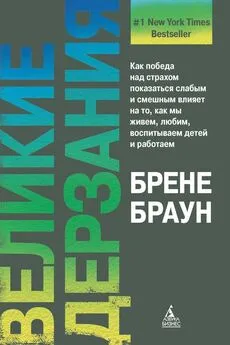
![Брене Браун - Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя [litres]](/books/1148478/brene-braun-vopreki-kak-ostavatsya-soboj-kogda-v.webp)