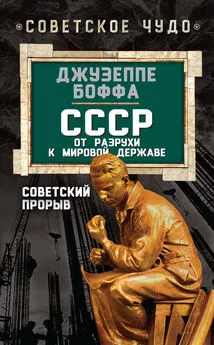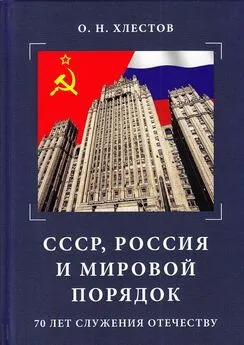Джузеппе Боффа - СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв
- Название:СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906798-89-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джузеппе Боффа - СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв краткое содержание
Джузеппе Боффа, итальянский историк и журналист, один из самых авторитетных специалистов по истории СССР. В Советском Союзе он работал много лет, получив с особого разрешения ЦК КПСС доступ к закрытым архивам; на основе их изучения Боффа написал книгу по советской истории, но она была издана только для высших должностных лиц СССР.
В представленной вашему вниманию книге показано, как Советский Союз смог совершить «цивилизационный прорыв», т. е. поднять в кратчайшие сроки на небывалый уровень свои науку и технику, создать мощную индустрию, догнать по основным показателям передовые страны мира. При этом Дж. Боффа не идеализирует советский прорыв, пишет о многих отрицательных его моментах; главная цель исследования – определить, насколько оправдана подобная политика и применима ли она в других условиях к другим государствам.
СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем временем напряженность в деревне, вызванная вторым подряд кризисным годом в области хлебных заготовок, продолжала нарастать. Государственные хлебозаготовительные меры и порождаемое ими сопротивление представляли собой лишь один из аспектов кризиса, правда такой, в котором концентрировались и все остальные. Борьба окрашивалась в зловещие тона: убийства и другие проявления насилия множились от месяца к месяцу. Споры на XVI партконференции в первую очередь велись по вопросу о том, можно ли разрешить кулакам вступать в коллективные хозяйства. В самом деле, наступление на кулачество было не только экономическим, но и политическим. Намерение поэтому – так признается теперь в исторических работах – состояло в том, чтобы продемонстрировать середняку, что индивидуальный путь к достатку (ради чего он и стремился выбиться в кулаки) для него закрыт. Перед ним как бы ставилась глобальная альтернатива, состояла она, если обозначить ее обобщенно, в выборе двух путей, которые так или иначе вели к крупному хозяйству: один, стихийный путь, был капиталистическим, другой – социалистическим. Первый путь блокировался во имя идеалов революции на том основании, что капиталистическое развитие деревни не смогло бы долго сосуществовать с социалистической индустрией, не угрожая поглотить ее. Но у русского крестьянина – в силу самой отсталости деревни – сохранялся еще третий путь, его собственный Путь отступления: возврат почти что к натуральному хозяйству, лишь бы оно было в состоянии прокормить его. Под нажимом власти кулак или крестьянин, у которого только-только начинал появляться достаток, стремились отделаться от своего инвентаря и имущества, например продать их, в надежде сохранить деньги в кубышке до лучших времен. Посевные площади сокращались. Городской рынок получал все меньше продуктов. Советское правительство лицом к лицу сталкивалось с серьезной, быть может, непоправимой опасностью упадка производительных сил деревни в таких же масштабах, в каких это произошло во время гражданской войны.
«Перелом» 1929 года
Первое ускорение хода коллективизации произошло летом 1929 г. К 1 июня в колхозах было около 1 млн. дворов, 3,9 %. К первым числам ноября процент повысился до 7,6. Это было много. Начались все более настойчивые разговоры о деревнях, районах и даже областях «сплошной» коллективизации. Но большинство вступивших продолжало оставаться бедняками, то есть теми, кто меньше рисковал. Середняки в колхозах по-прежнему составляли явное меньшинство.
Впрочем, слово «колхоз» далеко не имело тогда того точного смысла, который оно приобрело позже. Оно означало пока по крайней мере три типа производственной ассоциации. Самым старым из них, ведущим начало непосредственно от революции, была коммуна, в которой коллективным было все: земля, скот, инвентарь, даже жилые постройки. Потом шла артель, в которой в общественном пользовании находились только земля и часть инвентаря, а следовательно, и урожай. Наиболее же распространенным типом – около двух третей общего числа – были простые товарищества по совместной обработке земли (тозы), в которых собственность оставалась в основном раздельной. По отношению к этому типу колхоза крестьянин испытывал меньшее недоверие, чем к другим.
Как бы то ни было, прогресс был: трудный, но реальный. Этим же летом, однако, прозвучали и первые сигналы тревоги. Шла новая, третья по счету, хлебозаготовительная кампания. До июня колхозное движение было скромным, но действенным. Потом началось форсирование, а с ним и более серьезные конфликты. «Здесь действительно не на шутку идет сейчас классовая борьба. Просто как на фронте», – говорилось в сообщении из одного района, где коллективизация шла ускоренным темпом. По деревням ходили апокалипсические слухи: на землю пришел Антихрист, скоро будет конец света, готовится «Варфоломеевская ночь» и все вступившие в колхоз будут вырезаны, крестьяне останутся без хлеба. Партийным активистам, которых посылали в села, рекомендовали не выходить по ночам, не садиться вечером у освещенного окна, чтобы не вырисовывался профиль на стекле, и т. п.
Одним словом, уже первые попытки показывали, что там, где стремятся достичь сплошной коллективизации, вступление крестьян в колхозы не может быть добровольным. Напряженность приобретала поэтому грозный оттенок, расстановка сил становилась неясной. Решения, принятые меньшинством, навязывались и всем остальным. Когда убеждений оказывалось недостаточно, уговоры сменялись запугиванием: «Ты за что: за кулака или за советскую власть?», что означало: если не вступишь в колхоз, значит, ты враг и соответственно с тобой следует обращаться. Случалось, однако, слышать в ответ и такое: «Я не за кулака и не за власть, а за трактор». Тогда некоторые руководители не скупились на обещания: «Все дадут – идите в колхоз!». Но государство могло дать весьма мало, и первые коллективные хозяйства уже страдали от нехватки инвентаря, ощущали на себе бремя общей отсталости русской деревни и неохотно сдавали зерно.
Сверху не последовало указаний действовать с большей осмотрительностью. Совсем наоборот. Начал Сталин статьей «Год великого перелома», написанной в годовщину революции. В статье утверждалось, что «в колхозы пошел середняк», а «коренной перелом» в отношении крестьянства к коллективизации сельского хозяйства изображался как нечто уже достигнутое. Через несколько дней (10–17 ноября) собрался Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии. Были обсуждены целых три доклада о сельском хозяйстве. Кроме того, пленум вновь занялся правыми и Бухариным; этот последний был выведен из Политбюро, после того как на него и остальных обрушивались массированные нападки и потоки критики в течение нескольких дней подряд. В подобной атмосфере даже видимость умеренности по вопросу о колхозах выглядела бы как уступка правым.
По мнению Молотова, который был одним из докладчиков, нужно было полностью коллективизировать главные сельскохозяйственные области или даже целые республики, и не за пятилетие, как он сам говорил несколькими месяцами раньше, на XVI партконференции, а в ближайшем году. Сталин заявил: «Теперь даже слепые видят, что колхозы и совхозы растут ускоренным темпом». Оратора, обращавшего внимание на первые опасные перегибы, Сталин прервал репликой: «Что же вы хотите, все предварительно организовать?». Тем не менее неверно было бы на этом основании представлять себе дело так, будто Центральный Комитет сопротивлялся форсированию, а Сталин с Молотовым заставляли его идти против собственной воли. Если судить по известным нам фактам, коллективизаторская лихорадка была присуща большинству ораторов. Впечатление было такое, что руководящие круги были сплошь охвачены надеждой одним махом разрешить проклятые проблемы села путем лихой атаки на старый крестьянский мир, с которым следовало расправиться самыми решительными методами. Уже в 1921 г. Ленин отмечал, что в партии есть немало «фантазеров», которые мечтают, что «в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия». В резолюции пленума говорилось как раз о «гигантском ускорении темпов развития… которое предвидел Ленин».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: