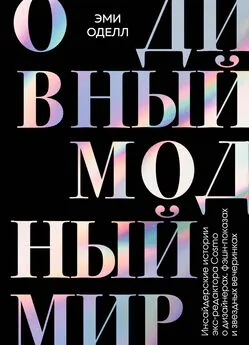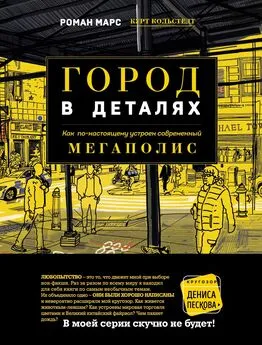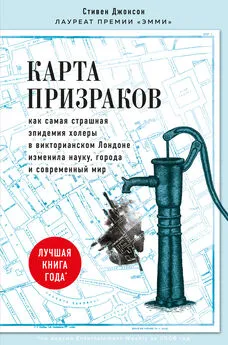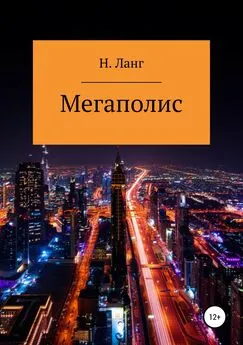Кристофер Бруард - Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис
- Название:Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0450-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кристофер Бруард - Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис краткое содержание
Монография выдающегося историка моды, профессора Эдинбургского университета Кристофера Бруарда «Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис» представляет собой исследование модной географии Лондона, истории его отдельных районов, модных типов (денди и актриса, тедди-бой и студент) и магазинов. Автор исходит из положения, что рождение и развитие моды невозможно без города, и выстраивает свой анализ на примере Лондона, который стал площадкой для формирования дендистского стиля и пережил стремительный индустриальный рост в XIX веке, в том числе в производстве одежды. В XX веке именно Лондон превратился в настоящую субкультурную Мекку, что окончательно утвердило его в качестве одной из важнейших мировых столиц моды наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком.
Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рейвер предсказал будущее бурлеска, описав театр, посвященный прежде всего демонстрации мод. Склонность к демонстрации одежд на сцене всегда была свойственна этому жанру, это беспокоило и часто обращало на себя внимание театральных журналистов, которые в попытках классифицировать его странность вплотную подошли к тому, чтобы создать свою версию сложной эстетической системы модного женского платья конца XIX века. Аллен цитирует Ричарда Гранта Уайта, который в 1869 году обратил внимание на то, каким образом бурлеск «заставляет объединиться условное и естественное именно в тех точках, в которых они кажутся наиболее удаленными друг от друга… В результате возникает абсурдность и монструозность. Эта система бросает вызов любой системе. Это ни на что не похоже» [164]. Уильям Дин Хоуэллс в том же году более откровенно описывал обвинения в сознательной извращенности, предъявляемые современным стандартам красоты, утверждая, что актеры и актрисы бурлеска «безусловно, шокируют взгляд своей ужасной красотой, своим лукавством, в котором нет очарования, своей грацией, вызывающей стыд» [165].
По мнению Аллена, для того чтобы правильно расценить такие комментарии, необходимо обратиться к предложенной историками литературы Стэллибрассом и Уайтом широко цитируемой концепции «низкого другого», которая дает возможность раскрыть трансгрессивные способности бурлеска [166]. Этот гротескный компонент карнавальной культуры представляется как формация, обычно «презираемая и отрицаемая на уровне политической организации и общественного существа, хотя она опосредованно состоит из коллективного воображаемого репертуара доминирующей культуры» [167]. Такое прочтение, безусловно, помогает объяснить, как происходило постепенное включение бурлеска в театральный мейнстрим к 1880-м годам, когда, по Аллену, его потомки сохраняли инверсные и пародийные качества бурлескного юмора, но строили свою привлекательность на более изнеженном и доступном варианте этой фантасмагории, в особенности на пантомиме. Оно также будет способствовать декодированию противоположного течения, где сама расслабленность и «иррациональность» драматической конструкции бурлескного спектакля «позволяла рассеивать шутки на широком поле современных мод и причуд», влияя на внешность и нравы его недавно расширившийся аудитории [168].
Пантомима служила идеальным средством для увеличения привлекательности бурлеска. В театральном мире Лондона 1880-х годов она притягивала самые большие и самые пестрые с социальной точки зрения толпы. Как и авторы бурлесков, постановщики, композиторы и режиссеры пантомимы использовали традиционные сюжеты (европейские сказки, а не греческие легенды), «придавали им современное или остроактуальное звучание, пересыпали диалоги каламбурами и остротами и приправляли песнями, написанными на известную музыку, позаимствованную из оперы, баллад и мюзик-холлов» [169]. За всеми изменениями в этой новой гибридной форме было также не узнать ее прародителя – комедии дель арте XVIII века. Благодаря амбициозному размаху выступлений и фантастическим декорациям и костюмам пантомима стоит особняком от своих народных предшественников. Корреспондент Illustrated Sporting and Dramatic News, описывая яркую постановку «Сорока разбойников» в театре Друри-Лейн, решил изложить свою критику в стихах. Получившееся стихотворение показывает, как некоторые визуальные элементы бурлеска вступили в огромную армию, воплотившуюся в пантомиме конца XIX века:
Под сводом радужной сценической аркады
Мы зрим явление девической армады.
Воительниц сковал как сон напрасный
Мерцающий доспех парчовый и атласный.
Напрасно глаз пытается решить,
Какой корабль он хочет проводить.
В тяжелых складках взгляд блуждает,
Пока пред ним без меры проплывают
И острый блеск камней, и колыханье перьев
На шляпах и гребнях, бряцанье звеньев
Кольчуги на грудях, и роскошь пряжек,
Богатство тканей, чуть прикрывших пышность ляжек.
А между тем благоговейно на это женщины глядят
И судят: «Без сомненья, такая по четыре фунта идет за ярд». [170]
Последние две строчки этого обзора подразумевают, что переделанная пантомима, несмотря на то что она многим обязана гротескной риторике бурлеска, принимала во внимание консюмеристские интересы составлявших ее аудиторию женщин. Это было возможно благодаря исключительным технологическим возможностям таких крупных театров, как Друри-Лейн и Лицеум, чье яркое и направленное освещение, а также большая площадь, позволявшая создавать сложные композиции массовых сцен, допускали сравнение с изощренными стратегиями маркетинга и демонстрации товара в новых универсальных магазинах. В сценариях, подобных описанному выше, мерцающие золотые блестки и стеклянные украшения адаптированного бурлескного костюма с его насыщенными по цвету и богатыми по текстуре поверхностями были рассчитаны на то, чтобы притягивать женские мечтательные взгляды и вызывать восторженные восклицания. В отличие от бурлеска, который был нацелен на замкнутую и узкую (мужскую) аудиторию, пантомима посредством визуальных кодов, наводящих на мысль о расточительстве, и периодического приближения к популярной моде удовлетворяла желание потреблять, отбросив чувство меры и предрассудки.
Со смещением акцентов сексуальная составляющая выступления не исчезла полностью, но, вероятно, была замещена специфической формой товарного фетишизма. Такие постановщики современных пантомим, как Огастас Харрис, привлекали ярких звезд мюзик-холла к работе на театральной сцене, например в Друри-Лейн, чтобы сделать представления более современными. И Харрис хорошо знал о чувственном влечении, которое испытывала мужская часть аудитории к его многочисленным певицам и танцовщицам, одетым в провоцирующую одежду амазонок или фей. Уильям Аркер, написавший рецензию на постановку «Золушки» в Лицеуме в декабре 1893 года, осознает, что такие неумеренные представления пробуждают одновременно жажду тела и богатства:
Одно удовольствие без остановки сменяет другое… Мисс Минни Терри очаровательна в роли грациозной Кокетки, которая восседает над драгоценностями и духами, платками, перчатками, веерами и пудреницами Будуара Феи… Хор и балет тщательно отобраны и представляют собой необычно высокий средний уровень красоты; одежды (выполненные Вильгельмом) сделаны с восхитительным вкусом и затейливостью [171].
Историк театра XIX века Майкл Бут полагает, что пантомиму и современную мелодраму объединяло внимание к нарративным возможностям театрального представления, а также то, что обе были неотъемлемыми составляющими драматической структуры его формы. Впрочем, Бут проводит различие между стремлением в мелодраме «имитировать социальную и городскую жизнь в масштабах… соответствующих уровню человеческой эмоции… ярко и образно выражая сенсуализм, свойственный ее природе» и отличающим пантомиму стремлением к созданию чистой и невероятной фантазии [172]. Допущение о том, что достоверность не имела большого значения для постановщиков «Золушки» или «Детей в лесу», верно только в том смысле, что эти постановки, за счет традиционности сюжета, обязательно помещались в нереалистичное пространство воображаемых королевств. Однако в таком случае игнорируется прямая зависимость сценического понятия волшебной страны от современного понимания коммерческих и народных культур Лондона как параллельных пространств с фантастическими предметами и желаниями. Как предполагал один рецензент постановки «Спящей красавицы и чудовища» 1900 года:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
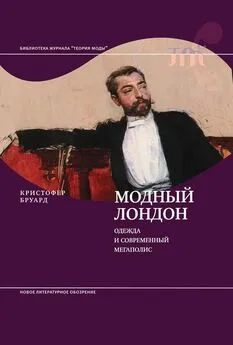

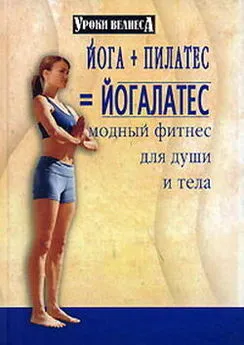
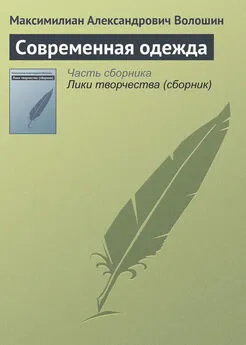
![Стивен Джонсон - Карта призраков [Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир] [litres]](/books/1065951/stiven-dzhonson-karta-prizrakov-kak-samaya-strashnaya.webp)