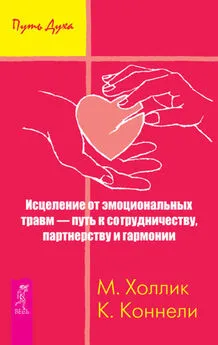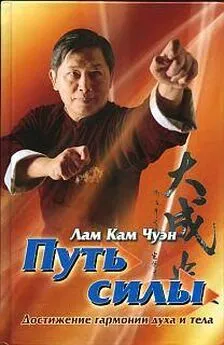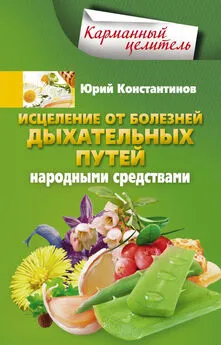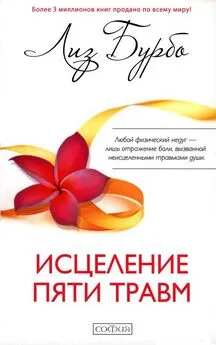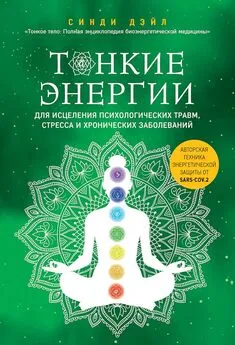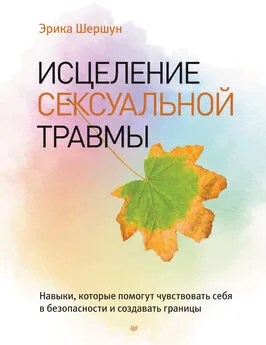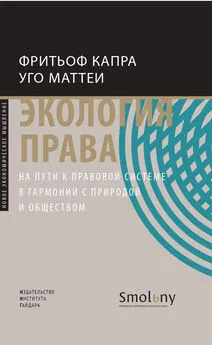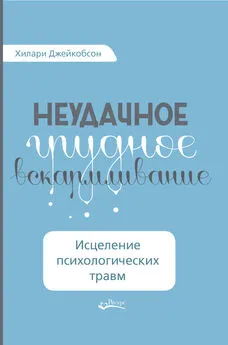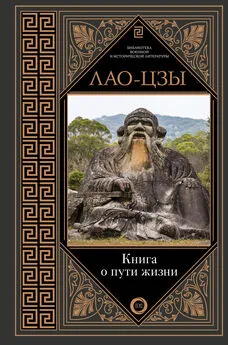Кристин Коннелли - Исцеление от эмоциональных травм – путь к сотрудничеству, партнерству и гармонии
- Название:Исцеление от эмоциональных травм – путь к сотрудничеству, партнерству и гармонии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Весь»
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9573-2380-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кристин Коннелли - Исцеление от эмоциональных травм – путь к сотрудничеству, партнерству и гармонии краткое содержание
Для того чтобы ответить на эти вопросы, М. Холлик и К. Коннелли провели серьезную исследовательскую работу, благодаря которой пришли к выводу, что все войны и катастрофы имеют первопричину, скрытую в человеческой природе, – психологические травмы, имеющиеся у каждого человека.
Авторы уверены: жить в мире и гармонии может любой, если исцелится от внутренней боли, – и рассказывают, как это сделать. Они рассматривают различные способы, начиная от древних индейских ритуалов и заканчивая современными психологическими техниками, и предлагают читателю авторскую методику, которая поспособствует не только личному исцелению, но и повороту хода в истории!
Исцеление от эмоциональных травм – путь к сотрудничеству, партнерству и гармонии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вероятно, и первые животные были одомашнены неосознанно. Сначала наши прародители могли подманивать кормом или солью пасущихся в окрестностях травоядных на расстояние поражения. Позже, вместо того чтобы убивать и разделывать всех животных сразу, было решено оставлять некоторых живыми, держать в неволе и резать по мере надобности. Так в селениях появился осиротевший молодняк. Более спокойных, смирных и продуктивных особей оставляли на шерсть, молоко и разведение, а остальных забивали на мясо. Так древние люди вырастили себе послушные стада.
Распространение сельского хозяйства
Даже когда домашние животные и культурные растения перестали быть в новинку, сельское хозяйство не спешило распространяться. Ведь бессчетные поколения наших предков были охотниками и собирателями, и кочевая жизнь была у них в крови. Австралийские аборигены и по сей день, почувствовав зов дороги, отправляются в странствия, а у Стивена Митена про жителей Папуа – Новой Гвинеи написано: «Жизнь на одном месте не в их характере» [152]. И для тех древних людей, кто окончательно оставил кочевую жизнь, сельское хозяйство было не слишком привлекательным занятием, ведь оно означало постоянный тяжелый труд. Нужно было расчищать и удобрять землю, сеять, поливать, полоть, ухаживать за домашней живностью. Потом наступало время урожая: его надо было собрать, обработать и запасти на месяцы вперед, ведь вслед за осенью надвигалась зима. Когда из окрестностей исчезала дичь или кончались дрова, вести хозяйство становилось еще тяжелее. В награду за эти труды поселенцы получали больше пищи, чем кочевники, но эта пища была менее полезной, и за наградой следовало наказание: артрит – за тяжелый труд, инфекции и паразиты – за плохие санитарные условия и работы со скотом [153]. Кроме того, поскольку оседлые жители выращивали только определенные виды растений и животных, голод грозил им чаще, чем кочевникам: плохая погода, вредители и болезни могли свести на нет все их усилия. Неудивительно, что фермеры были менее рослыми и умирали раньше – об этом говорят их останки, найденные в раскопках.
Естественно, что с такой смесью преимуществ и недостатков сельское хозяйство нескоро смогло покинуть свою колыбель – Переднюю Азию. В некоторых местах охотники-собиратели и фермеры жили бок о бок не меньше тысячи лет. В Европе, например, средняя скорость распространения сельского хозяйства составляла всего один километр в год. Сорок веков потребовалось, чтобы поля, огороды и загоны для скота появились в Британии и Скандинавии, и только пять тысяч лет назад сельское хозяйство окончательно закрепилось на всем континенте [154]. Как сказал биолог Джаред Даймонд, «это как-то не похоже на волну энтузиазма» [155]. Впрочем, здесь возможен и другой взгляд. Когда археолог Стивен Митен ознакомился с теми же самыми данными, он заключил, что «первые фермеры продвигались на запад с достаточно уверенной скоростью – примерно двадцать пять километров за поколение… Эта скорость означает не просто успешность нового образа жизни – это была самая настоящая колонизация» [156].
Распространение сельского хозяйства происходило, вероятно, по двум основным причинам. Кочевники не спешили менять привычный образ жизни и медленно отступали под натиском волны поселенцев. В Европе при этом сложилась мозаичная картина: фермеры, двигаясь с востока, занимали плодородные долины, но обходили холмы и леса, оставляя их охотникам-собирателям [157]. При этом отношения складывались достаточно мирно: пахари торговали с охотниками и брали себе жен из их среды. Последнее как раз и могло привести к постепенному увяданию кочевой культуры.
Вполне возможно, что сельское хозяйство считалось более престижным занятием. А еще – эпоха изобилия походила к концу. Поэтому все больше охотников переходило к оседлой жизни, которая не накладывала серьезных ограничений на количество имущества и населения. Ведь, живя на одном месте, не нужно заботиться о том, чего и сколько сможешь взять с собой в путь. Можно было строить долговечные жилища, рыть погреба для хранения пищи и изготавливать множество вещей – охотничье оружие самых разных видов, точильные камни, пестики и ступки, корзины, лепные горшки, скульптурки и резные украшения. Детей (по крайней мере – в первое время) можно было иметь столько, сколько сможешь прокормить, поэтому вынужденный инфантицид [158]прекратился, и население поселков стало быстро расти. Впрочем, когда природное изобилие пошло на убыль, все изменилось, и оседлые жители встали перед выбором: вернуться к кочевой жизни, бросив все, что нельзя унести, включая детей, или же остаться и найти способ выращивать больше пищи, чем могла дать окружающая природа. Но точка невозврата уже была пройдена, и решение этой дилеммы было принято в пользу сельского хозяйства [159].
К сожалению, оказалось, что социальная структура кочевого племени при новом образе жизни неприемлема. Традицией охотников-собирателей было тут же делиться всем добытым, а фермеры должны были сохранить собранный урожай для холодного времени года, часть оставляя на семена. Поэтому, как утверждает Питер Богуцки, вести хозяйство можно было только небольшими семейными группами с тесными личными и родственными связями [160]. У семьи больше стимулов к различным (пусть и рискованным) инновациям, ведь все, что они вырастят, они сохранят для себя. С другой стороны, и отсутствие поддержки со стороны общины побуждало к поиску надежных способов получения высокого урожая. Переход от общины к семье привел также к появлению идеи собственности на возделываемый клочок земли и все, что он приносит; это тоже не давало сняться с насиженного места. Социальные изменения, возможно, влекли за собой новое отношение к распределению пищи: семьи и деревни теперь могли соревноваться в том, кто устроит самый щедрый пир, ведь обмен дарами по-прежнему оставался могучим средством поддержания дружбы и сотрудничества. Наверное, именно в те времена и зародился обычай наделять невесту приданым к свадьбе [161].
Стивен Митен, однако, предполагает, что истинная мотивация для перехода к сельскому хозяйству была совсем другой: контроль над землей, водой и запасами пищи приносил материальные блага, повышение положения в обществе и, наконец, власть. Иными словами, индивидуализм, соперничество и жадность, а вовсе не необходимость побуждали людей к «смене профессии» [162]. Впрочем, вряд ли это предположение соответствует истине, ибо, согласно археологическим находкам, имущественное и социальное расслоение началось лишь спустя четыре тысячи лет после первых сельскохозяйственных опытов. А вот зарождение религии вполне могло способствовать престижу оседлой жизни. В Турции, неподалеку от места, где найдены наиболее ранние на сегодняшний день следы культивирования пшеницы, есть одно примечательное место – холм Гёбекли-Тепе. Здесь около одиннадцати тысяч лет назад древний народ, живший охотой и собирательством и пользовавшийся орудиями из кремня, воздвиг гигантские Т-образные колонны из известняка. Десять из них, по два с половиной метра в высоту и семь тонн весом, были установлены в круглые впадины и покрыты рельефными изображениями животных и абстрактными символами. Значение этих построек, вероятно, так и останется неразгаданным, но Стивен Митен считает, что они воплощают страх перед опасностями дикой природы. Как бы то ни было, возведение этого комплекса потребовало титанических усилий множества людей в течение долгих лет. Естественно, всем им нужно было что-то есть, и необходимость прокормить такую массу народа могла стать одной из причин перехода к сельскому хозяйству [163].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: