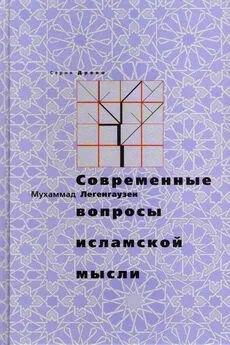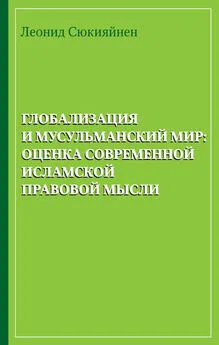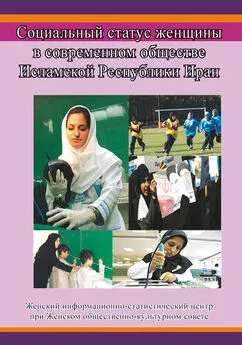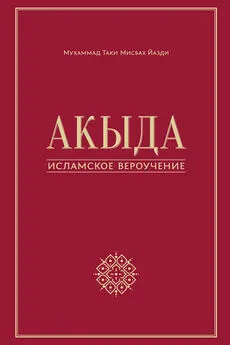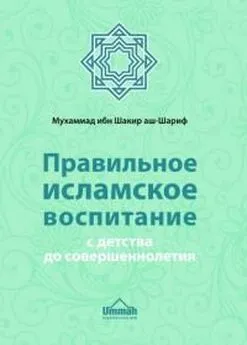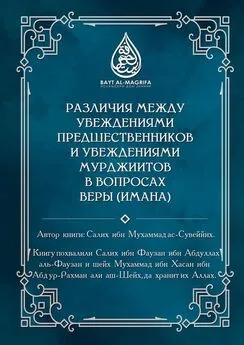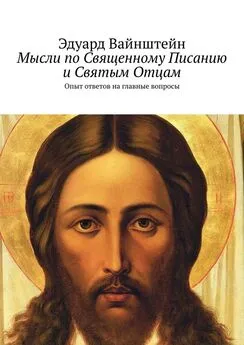Мухаммад Легенгаузен - Современные вопросы исламской мысли
- Название:Современные вопросы исламской мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Садра»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91796-002-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мухаммад Легенгаузен - Современные вопросы исламской мысли краткое содержание
Современные вопросы исламской мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Никакая дискуссия о том, каким образом религиозные повествования помогают нам понять, кто мы и куда направляемся, не будет полноценной, если в ней некоторое внимание не будет уделено вопросу о религиозном языке, и это приводит нас к другой сфере, в которой философ может задавать вопросы теологу.
Философия языка была одной из сфер наибольшей активности западных философов двадцатого столетия. Немецкий математик, логик и философ Готлоб Фреге (1848–1925) был инициатором исследовательской программы по философии языка, связанной с такими проблемами, как смысл и отношение, невозможность замены соотносящихся терминов в различных «интенциональных» контекстах (например, может быть истинным, что S верит в то, что a это F , и истинно, что a = b , но при этом S не верит, что b – это F ), и логический анализ различных видов семантических функций выполняемых в обычном языке указательными местоимениями, именами собственными, определенными описаниями и другими видами терминов и выражений. Программа Фреге была продолжена Расселом (1872–1970), Виттгенштейном (1889–1951), Карнапом (1891–1970), Куайном (р. 1908) и Крипке (р. 1940) – и это лишь немногие из тех, чьи идеи о логическом анализе языка спровоцировали продолжительные дискуссии. Программа логического анализа вскоре была экстраполирована и на теологические утверждения. Философы религии начали задавать вопросы о логическом анализе таких утверждений, как «Бог вечен» 41 и «Бог всемогущ» 42 и о способах, которыми мы могли бы успешно ссылаться на Бога 43 .
Хотя эти дискуссии могут быть успешно сравнены со средневековыми спорами вокруг сходных тем, как в исламской, так и в христианской теологии и философии, многие современные христианские теологи находят логические детали довольно скучными, считая их не имеющими отношения к их первоочередным заботам. Многие из этих теологов были более впечатлены позднейшими работами Виттгенштейна, и его предположением, что религиозный язык можно сравнить с игрой или формой жизни, существенно отличной от научного языка, для того, чтобы предотвратить возможность возникновения любого конфликта между религией и наукой 44 .
Теория языковых игр Виттгенштейна также привлекла богословов, искавших ответ на обвинение позитивистов, утверждавших бессмысленность притязаний религии. Хотя верификационистская теория значения, отстаиваемая позитивистами, была в целом отвергнута, лозунг Виттгенштейна «значение есть применение» дал теологам основание в философии языка обратить свое внимание на функционалистские теории религиозного языка, которые, как представляется, лучше стыкуются с антиредукционизмом, популярным в протестантских теологических кругах. Эти богословы почувствовали, что любая попытка вывести религиозные утверждения из теоретического разума (как в традиционных доказательствах существования Бога, именуемых естественной теологией ) или из практического разума (как в теологии Канта) должна быть отвергнута как сводящая религиозные утверждения к метафизике или этике. Этот метод доказал свою неспособность оценить фундаментальную оригинальность религиозного видения мира, которое Шлейермахер (1768–1834) называл религиозным моментом опыта .
Такие тенденции среди многих (хотя ни в коем случае не всех) из тех, кто был впечатлен функционалистскими объяснениями религиозного языка, во многом являются антифилософскими, даже когда они обращаются за поддержкой к философии позднего Виттгенштейна. Хотя существует множество разногласий между сторонниками разных вариантов фидеизма , среди фидеистов имеется консенсус в том, что религия не нуждается в философском объяснении или оправдании.
Таким образом, после нашего экскурса в пограничные с теологией философские территории, мы вернулись к исходной точке нашего путешествия, к эпистемологии и вопросу о рациональности религиозного верования, поскольку функционалистские подходы к религиозному языку, включая теории, согласно которым религиозный язык более служит выражению отношений чем описанию действительности, являются зачастую попытками ухода от рациональной критики религиозных верований. Фидеисты провозглашают, что ни в каком оправдании нет нужды, поскольку язык религии не зависит от языка оправдания и никак не соотнесен с ним.
Здесь мы можем рассматривать реформированную эпистемологию Алвина Плантинги или схожие с ней идеи Уильяма Алстона как разновидность компромисса между теми, кто пытается оправдать религиозные притязания
рациональными доказательствами и теми, кто отрицает, что подобное оправдание вообще необходимо или желательно. Плантинга и Алстон предлагают философское доказательство, почему религиозное верование может считаться оправданным и рациональным даже при отстустсвии прямых свидетельств его состоятельности.
Сегодняшние христианские теологи, однако, зачастую разочарованы работами христианских философов, подобных упомянутым выше. Эти философы в первую очередь озабочены вопросами рациональности или [рационального] оправдания, которое может или не может присутствовать при утверждении истинности различных религиозных притязаний. Богословов, с другой стороны, похоже, более занимает вопрос о влиянии, оказываемом на жизнь верующих их преданностью определенным верованиям и участием в жизни Церкви. Религия, они настаивают, не собрание истин о Боге, а путь к спасению. Религиозные символы важны для многих современных христианских богословов не потому, что они раскрывают определенные религиозные истины, невыразимые несимволическим языком, но скорее потому, что они образуют контекст, в рамках которого возможно найти смысл человеческой жизни 45 .
Другая причина, которой христианские теологи объясняют свою антипатию к философии, связана с проблемой религиозного плюрализма. В прошлом христианские теологи утверждали, что доктрины христианства истинны, а все остальные доктрины, несовместимые с христианской догмой, ложны. Среди догм традиционного христианства – утверждение о том, что есть только один путь к спасению: для католиков – Церковь, для протестантов – участие верой в искуплении Христом греха. Короче, традиционное христианство лишает евреев, мусульман, индусов и буддистов спасения и вечного блага, если только они не примут христианство по изучении его доктрины. По мере того, как христиане убеждаются в том, что есть хорошие люди, даже святые люди, следующие по отличающемуся от христианства пути, несмотря на свое знакомство с его доктриной, для них становится трудно принять традиционную догму, лишающую не-христиан рая. Некоторые христианские богословы даже начинают придерживаться того взгляда, что христианская теология была слишком занята истинностью догмы самой по себе. В ответ на эксклюзивизм традиционного христианства, в соответствии с которым признание истинности определенных утверждений является необходимым условием спасения, некоторые впали в другую крайность, решив, что истинность религиозных доктрин не имеет значения, и что попытки оправдания религиозных верований или демонстрации их рациональности не имеют отношения к вопросу о спасении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: