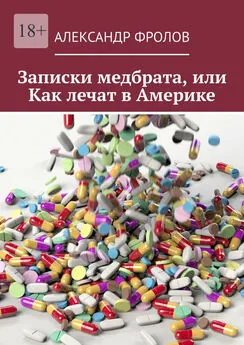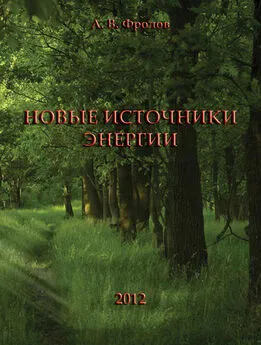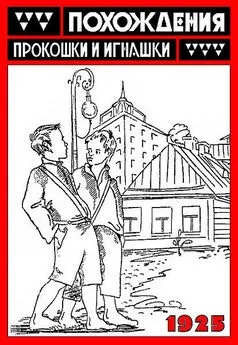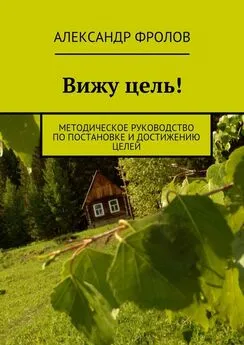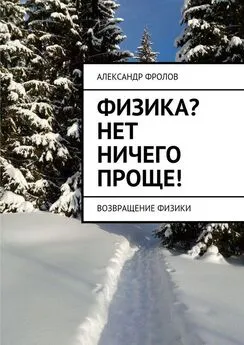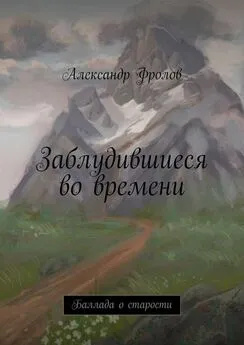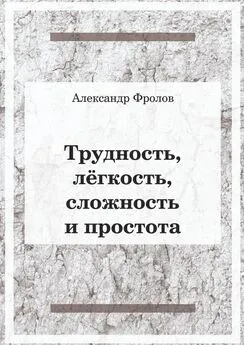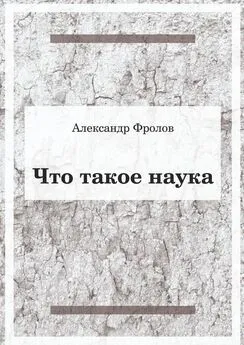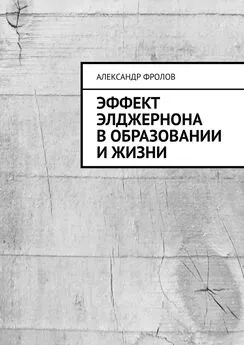Александр Фролов - Записки медбрата, или Как лечат в Америке
- Название:Записки медбрата, или Как лечат в Америке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005618061
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Фролов - Записки медбрата, или Как лечат в Америке краткое содержание
Записки медбрата, или Как лечат в Америке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 7. Работа санитаром
В июле 2005 года, после того как был отчислен из колледжа в первый раз, начал работать санитаром. Здание больницы, в которую я устроился, было новее и лучше по сравнению с теми лечебными учреждениями, в которых уже успел побывать как практикант. Просторные палаты с высокими потолками произвели хорошее впечатление. Теперь у меня появилась возможность более внимательно присматриваться к больным, наблюдать за жизнью и изучать систему для себя. Когда был студентом, такой возможности не было, так как всё внимание было сконцентрировано на написание планов по уходу и подготовку к контрольным.
Общаясь по-русски, я говорю, что работал санитаром, но на самом деле это не совсем так. Как я уже говорил, в Америке есть масса помощников, и названия этих специальностей можно перевести только описательно. Так вот, если точнее, работал помощником медсестры, или «ассистентом по уходу за больными», если дословно. Обязанностей больше, чем у санитарки в нашем понимании этого слова. Рабочий день начинался со смены постелей всем пациентам, и не важно, чистые простыни или нет. (Это было в середине нулевых. В конце десятых таким расточительством уже не занимались). Одна из основных обязанностей помощника – измерять у пациентов vital signs, или «жизненные признаки», если в дословном переводе. Санитары, а иногда и сами медсёстры как заведённые всем подряд измеряют температуру, пульс, давление, считают частоту дыхания. Вот эти четыре параметра и называются vital signs, или сокращённо vitals. В 2001 году к этим четырём традиционным признакам был добавлен ещё пятый – боль. Так что, измеряя давление, санитарка ещё и спросит, не испытывает ли пациент болей и если да, то просит оценить интенсивность по шкале от нуля до десяти, где ноль – отсутствие боли, а десять – самая страшная и невыносимая боль.
Филологи знают, что любой язык стремится к упрощению, и наличие сокращённой формы у данного термина свидетельствует о том, что медики употребляют этот термин очень часто. Русские врачи, которые подтвердили свой диплом в США, тоже пользуются этим термином на каждом шагу, но когда я их спрашиваю, как перевести vital signs на русский, они обычно на секундочку задумаются, на лице мелькнёт выражение растерянности, после чего скажут: «Ой, у нас и нет такого». Безусловно, в российских больницах измеряют пациентам и температуру, и давление, и пульс, если надо, но нет такой фанатичной зацикленности на самом процессе измерения этих параметров, поэтому и нет в русском языке медицинского термина, который бы соответствовал английскому термину vital signs. (И всё-таки я случайно узнал совсем недавно, что этот термин правильно переводится как «жизненные функции», но, очевидно, употребляется крайне редко, поэтому многие врачи его даже и не знают).
В мои обязанности также входило каждые два часа переворачивать лежачих больных, чтобы не появились пролежни. И тут в первый раз появилась возможность задуматься: «Почему так много лежачих»? Cтал внимательно пересматривать истории болезней. Если было записано, что больной перенёс инсульт, травму позвоночника или что-то в этом роде, тогда понятно, но таких лежачих было меньшинство! У большенства прикованных к постели диагнозы были самые обычные: гипертония, диабет, изжога, повышенный холестерин… Я не хочу приуменьшить серьёзность всех этих болезней, многие из которых в конечном итоге становятся причиной смерти, но тем не мение пенсионеры в России с такими диагнозами на даче работают, а американцы в постели лежат, и их нужно переворачивать. Бывало, повернёшь больного на один бок, приходишь через два часа, а он всё в том же положении. Говоришь, что пора поворачиваться на другой бок, а он берёт… и сам поворачивается! Попробуйте пролежать в одном положении два часа! Хорошо запомнил пациентку, бабульку лет семидесяти, которая поступила с диагнозом «пролежни». Она с видом большой начальницы разезжала по отделению в своей собственной инвалидной коляске с электромотором. А запомнил я её потому, что был крайне удивлён, когда узнал, что она может самостоятельно ходить и притом без палочки! Пролежни у человека, который может ходить, но добровольно сел в инвалидную коляску для удобства, – такого, уверен, российские медики не видели. За последующие четырнадцать лет работы я ещё несколько раз встречал подобное. В Америке чаще, чем в России, можно увидеть в общественных местах людей в колясках. Первое впечатление: страна заботится об инвалидах и сделала всё возможное, чтобы облегчить им жизнь. Но если в России колясками пользуются инвалиды, которые действительно не могут ходить, то в Америке часто садятся в коляски для удобства и те, у которых ноги ещё достаточно хорошо ходят. Если у инвалида в России парализованы ноги, но руки здоровы, он крутит колёса коляски руками. Американские колясочники руками колёса почти не крутят: их либо кто-то толкает, либо коляска с мотором, в результате чего организм быстро слабеет. Мне стало ясно, что обилие лежачих пациентов не оттого, что людей постигли страшные болезни, от которых в других странах они давно бы умерли, но американская медицина за них борется, а оттого, что они сами довели себя до такого состояния малоподвижным образом жизни.
Изучая истоии болезней, был не в меньшей степени шокирован и тем, что довольно часто, один-два раза в неделю, попадались записи об огнестрельных ранениях. Среди той категории лежачих больных, которые стали лежачими по уважительной причине, а не из-за лени, встречаются и такие, которым пуля повредила позвоночник. И ранены эти люди были не где-то в Ираке или Афганистане, а на улицах своих родных городов. По статистике в США ежегодно происходит 30 тысяч убийств, в основном из огнестрельного оружия, и ещё 70 тысяч получают пулевые ранения. То есть 700 тысяч за десять лет, почти полтора миллиона за двадцать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в лечебных учреждениях часто встречаются больные с историей огнестрельных ранений. Для меня в начале это было экзотикой, но со временем привык.
В больницах есть разные отделения, но это деление очень условное: на нашем этаже были и онкобольные, которые принимали химиотерапию, и пациенты с инфекционными заболеваниями, а персонал все время бегал от инфекционных больных к тем, которые проходили «химию», то есть к тем, у кого имунная система сильно ослаблена. Конечно, персонал обязан мыть руки между пациентами, но кто сказал, что инфекция переносится только из-за непомытых рук? К тому же медсёстры и руки не всегда моют, да это и не реально: если их мыть антибактериальным мылом каждый раз, когда в палату входишь и когда из неё выходишь, как это требуется по правилам, то есть раз пятьдесят в день, кожа просто слезет с рук. Была даже палата для туберкулёзников. (Во всех больницах, в которых я побывал, есть такая палата, и она распоможена в самом обычном отделении). Да, в таких палатах есть много предосторожностей. Одна из них – негативное давление. Когда двери открывают, благодаря этому давлению, воздух поступает только из коридора в палату, – в коридор воздух из такой палаты не выходит. Также заходить нужно только в распираторе. В России, возможно, и нет палат с негативным давлением, но и туберкулёзников никто не кладёт в одно отделение с онкобольными, что в плане контроля за распространением инфекции намного эффективнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: