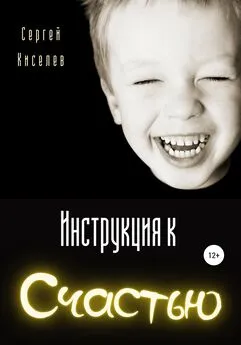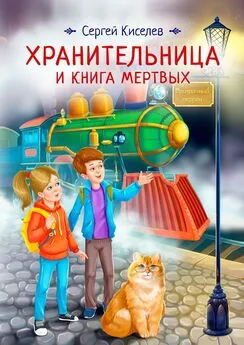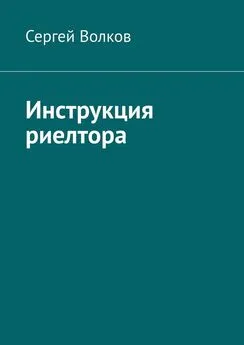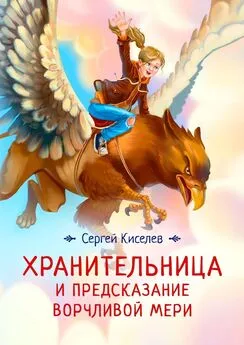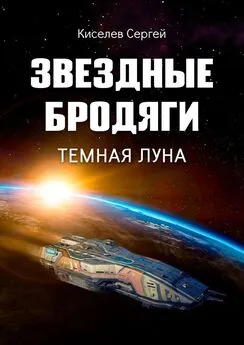Сергей Киселев - Инструкция к счастью
- Название:Инструкция к счастью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Киселев - Инструкция к счастью краткое содержание
Инструкция к счастью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако в конце эпохи античности убежденность в независимости человеческого счастья от богов вновь утрачивается и происходит возврат – в измененном виде – к теоцентрической концепции. Это произошло в связи с общим в то время возвратом мышления на религиозную основу. Плотин и многие менее известные мыслители видели счастье в обладании благами, но для неземного счастья должны были быть и неземные блага; тех благ, которые Аристотель или стоики считали источником счастья, было уже недостаточно. Счастье даруют боги, и достижимо оно только благодаря посвящению всех помыслов и жизни богу. Греческая идея счастья, которая первоначально имела религиозный характер и ориентировалась на элизийские радости и судьбу, дарованную богами, в классическом своем варианте отбросила трансцендентные идеалы, чтобы потом, однако, вновь возвратиться к ним.
Христианство, возникшее в период усиления религиозности, с самого начала понимало счастье трансцендентно. В Евангелии говорится в основном о счастье в небесном царстве, завещанном Христом. Оно имеет сходство с понятием блаженства у греков. Счастливые и в греческих текстах Евангелия именовались всегда μακάριοι (блаженными). А позднее в латинских текстах главным понятием выступает felicitas, которое означает то же самое, что и блаженство. Христианство применило понятие неземного счастья и к земной жизни. Оно провозгласило, что состояния блаженства можно достичь уже на земле, когда в душах людских произойдет перемена и возникнет Царство Божие на земле. Но и теперь люди могут быть счастливыми, если живут по-Божьему.
Евангелистское понятие счастья было не единственным христианским понятием: схоластическая философия тоже его имела. Они отличались между собой, и это различие проявлялось также и в терминологии: латинские тексты у христианских философов говорили о felicitas, а у схоластов – о beatitudo. Термин beatitudo происходил от греческого и не означал ничего другого, кроме как «эвдемония», а именно «обладание наивысшими благами». Как и древнегреческие философы, схоласты утверждали, что удовлетворение не составляет счастья, а, наоборот, вытекает из счастья (summa (delectatio seu ineffabile gaudium ex essentia beatitudinis necessario sequitur), является не основой, а следствием счастья. Схоласты только религиозное добро считали источником счастья; все другие блага слишком непостоянны, изменчивы и малы. Они утверждали, как и древние, что к счастью ведет жизнь разумная и добродетельная; но, считая разум и добродетель необходимыми для счастья, не считали их достаточными. Нужна, кроме этого, помощь Бога, его любовь – любовь же достигается не разумом, а верой. И счастье связано не столько с добродетелью, с разумом и даже с лишениями и страданиями, устремлением к богу (это знали еще в античности), сколько с любовью и верой, что было специфическим мотивом, введенным в понятие счастья христианской философией.
Понятие счастья как обладания благами просуществовало все средние века. Более того, и новое время не сразу порвало с ним. Видные философы XVII в. – Декарт, Спиноза, Лейбниц – понимали счастье как совершенство, как обладание наивысшими благами. Таким образом, с IV в. н.э. по XVII в. в философии было живо понятие, сегодня уже далекое нам.
Однако новое время произвело радикальный переворот в понятии счастья: оно превратилось в понятие субъективное. Счастье определяли уже не как обладание благами, а как чувство удовлетворения. Жизнь является счастливой, когда мы довольны ею. Счастливым принято называть человека, удовлетворенного своей жизнью, независимо от того, располагает ли он благами и какими; важно только, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным, то есть счастливым. Счастье и обладание благами, счастье и совершенство, которые в течение стольких веков отождествлялись, оказались разделенными. Новое время не только перешло к субъективному понятию, но так усвоило его и так к нему привыкло, что казалось уже странным, что до этого в течение двадцати веков понятие счастья могло быть совершенно иным.
Субъективное понимание счастья было вначале чисто гедонистическим: о счастье свидетельствует удовольствие. Понятие счастья, которое упрочилось в XVIII в., не выходило за рамки удовольствия. Оно существенно отдалилось от античной эвдемонии и было уже ближе к блаженству, но понятому более узко. Дж. Болдуин не без основания писал своем «Философском словаре», что язык нового времени не различает понятий эвдемонизма и гедонизма. В эпоху Просвещения, когда перестали различать счастье и удовольствие, соотношение этих понятий еще больше упростилось, особенно в распространившемся тогда эмпиризме. В Англии Дж. Локк определял счастье как удовольствие, точнее, как наивысшее удовольствие, доступное человеку. А на исходе века Иеремия Бентам все еще понимал счастье как удовольствие. Во Франции, другом центре философской мысли, наиболее влиятельные и типичные мыслители того времени сводили счастье к удовольствию или удовольствие к счастью. «…Мимолетное или малодлительное счастье называется удовольствием», – писал Гольбах в «Системе природы». Это понятие настолько распространилось, что перестало быть достоянием лишь эмпириков и гедонистов. Даже Кант, имевший совершенно иные убеждения, в сущности, не отделял счастья от удовольствия и, не придавая большой ценности удовольствиям, не ценил и счастья.
Несмотря на такое существенное изменение понятия счастья, некоторые традиционные положения теории счастья сохранили свою значимость. Ламетри, сторонник крайне гедонистических взглядов, писал: «Какая это великая роскошь – творить добро, чувствовать радость от хороших поступков: кто добродетелен, благороден, человечен, чуток, милосерден, великодушен, тот испытывает такое удовлетворение, что, я считаю, тот, кто не имел счастья родиться добродетельным, достаточно наказан уже одним этим».
Понимание счастья как приятной жизни уже близко к пониманию его как ощущения положительного баланса жизни, имеющего своим следствием общую удовлетворенность жизнью. Однако это понимание, которое сегодня занимает главное место, утвердилось только в XIX в. В свое время его разделял Демокрит. Переход к новому понятию трудно связать с определенным названием или сроком; скорее всего, оно распространялось постепенно, пока не возобладало над предшествующими. Мысль о балансе жизни, положительном или отрицательном, столь естественна, что она должна была появиться в сознании людей, но еще не проникла в литературу, еще не получила названия счастья и несчастья. Долгое время в философии господствовали более простые понятия, такие, как эвдемония и удовольствие. В XIX в. и это сложное и не вполне ясное понятие, которое, однако, завоевывало все более широкое распространение, также стало предметом размышлений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: