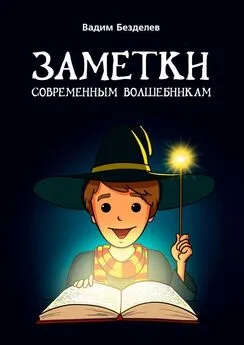Вадим Михайлин - Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции
- Название:Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1673-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Михайлин - Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции краткое содержание
Вадим Михайлин — филолог, антрополог, профессор Саратовского университета.
В книге присутствует обсценная лексика.
Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Играют дети в снежки во дворе Литинститута. Один кидает и — бац — окно разбил. Выскакивает из подвала дворник — и за ним. Мальчик бежит и думает (исполнитель закатывает глаза и на лице у него появляется скорбное выражение): «Господи, ну зачем это все? Мороз, разбитое окно, страшный дворник. Сейчас бы лежал дома под пледом, пил чай с плюшками, читал Хемингуэя…»
В это время на Кубе пьяненький Хемингуэй сидит под навесом из банановых листьев в пляжном баре, потягивает дайкири и думает (исполнитель копирует фирменный хемингуэевский прищур с популярного в СССР фотопортрета): «Господи, ну зачем все это нужно? Пыль, жара, потные негритянки. Сейчас бы сидеть в Париже, где праздник, который всегда с тобой, на набережной Гранд Огюстен, в кафе, вдвоем с Андре Мальро. Пить абсент, говорить о литературных премиях, салонах, о писательских любовницах…»
В это время в Париже, в кафе на набережной Гранд Огюстен, сидит напрочь простуженный Андре Мальро, потягивает перно и думает (исполнитель в меру способностей изображает на лице французскую утонченную ennui): «Господи, какая тоска! Слякоть, дождь, простуда. Даже поговорить по-хорошему не с кем — у всех на уме одни сплетни о литературных премиях, салонах, писательских любовницах. Сейчас бы приехать в Москву, зайти с мороза к Андрею Платонову, выпить водки под грибочки и расстегай, поговорить о вечном, о судьбах бытия…»
В это время Андрей Платонов с метлой наперевес бежит за пацаном и думает (исполнитель изображает состояние холодного бешенства): «Догоню, убью суку!»
В действительности Андрей Платонов, конечно, никогда не работал дворником. Но анекдот и не про действительность. Анекдотический Пушкин значим для традиции как трикстер, в чем-то подобный зайцу из зооморфной «серии» (впрочем, Пушкин, равно как и заяц, есть персонаж серийный), анекдотический Рерих — как воплощенная пародия на духовный поиск:
Ходит Рерих по Тибету, ищет Шамбалу. Год ищет, два ищет. И чует — все ближе она, Шамбала. Спускается в очередное ущелье и вдруг видит — пещера. И Шамбалой оттуда пахнет. Он заходит, начинает спускаться — сто метров, двести, пятьсот. А Шамбалой просто прет уже, дышать нечем. Свет вдали забрезжил. И вот выходит он в огромный зал, освещенный ароматическими лампами. (Исполнитель восторженно и ошарашенно оглядывается по сторонам.) Вдоль стен триста монахов поют: «Омммммм…» А посреди зала стоит огромный лингам из цельной нефритовой скалы. И Рерих так: а-а-а-а… (Исполнитель разводит руки в стороны и застывает в немом восторге ) И тут у него над ухом возникает тоненький такой голосок (исполнитель переходит на дискант и произносит с противной интонацией вредничающей пятиклассницы): «Коля?» (Исполнитель возвращается к мужскому тембру и меняет интонацию на экстатический полушепот. Далее интонации чередуются): «Да…» — «Рерих?» — «Да…» — «А помнишь… в тринадцатом году… на углу Фонтанки и Невского тебя извозчик на хуй послал?» (Исполнитель выдерживает небольшую паузу, после чего произносит уверенной скороговоркой): «Поздравляю, ты пришел!»
Отследить источник анекдота о Рерихе вряд ли возможно — в отличие от следующего текста, который никак не мог появиться прежде, чем отечественный зритель увидел «Кофе и сигареты» (1986) Джима Джармуша.
Умирают Том Уэйтс и Игги Поп. Попадают в ад. Встречает их черт с рогами и копытами, поводит в зал ожидания (исполнитель переходит на неторопливую — с ленцой — бюрократическую интонацию): «Посидите, — говорит, — документы на вас уже оформлены, распределение произведено, сейчас вернусь». Ну сидят, ждут. Тут черт возвращается и ведет с собой бабищу страшнее атомной войны. Морщинистая, вся в прыщах, сиськи висят чуть не по колено. Подтаскивает ее к Тому Уэйтсу и говорит (исполнитель переходит на интонацию гневной проповеди): «Ну что, песенки всю жизнь лабал? Кривлялся? Бухал по-черному? За это будешь с ней жить до конца времен!» И уводит обоих. Ну, Игги Поп сидит (исполнитель поджимает одно колено к другому и засовывает в рот костяшку кулака) и думает: «Если Тому такое, то мне-то что будет? Господи, ужас какой…» Тут возвращается черт и тащит за руку Памелу Андерсон. Игги Поп, понятно, охуел. Черт оборачивается и говорит (исполнитель поворачивает голову в сторону и возвращается к гневноназидательной интонации): «Ну что, блядища? Допрыгалась?» Анекдоты-одиночки возможны и в пределах крупных поджанров, вроде бы предполагающих серийность как принцип: в том же анекдоте зооморфном (уже приведенные выше тексты про горного козла на вершине скалы, про древоточцев в скрипке Страдивари, про Красного Оленя и так далее).
Впрочем, вернемся к заявленному материалу.
Тип анекдота, о котором пойдет речь в этой главе, по-своему уникален. С одной стороны, он вполне очевидным образом примыкает к достаточно обширной группе «этнических» анекдотов, которая сама по себе крайне информативна, поскольку позволяет отслеживать те модели, по которым в повседневной культуре конструируются и воображаемые сообщества, в данном случае этнические. С другой стороны, этнические анекдоты, как правило, не имеют четко выраженных источников, отражая системы достаточно традиционных, если не сказать архаических, стереотипов и восходя к тем устным нарративным жанрам, которые сложились задолго до возникновения более или менее массовых урбанизированных социальных сред. Анекдоты же «про чукчу» в этом смысле стоят особняком, поскольку здесь источник можно указать со всей очевидностью — это два советских художественных фильма о Чукотке и чукчах, снятых с разницей в 17 лет и представляющих две принципиально разные эпохи в развитии советского кинематографа — «Алитет уходит в горы» (1949) Марка Донского, режиссера, обретшего статус классика еще в сталинские времена, и «Начальник Чукотки» (1966) постоттепельного дебютанта Виталия Мельникова. Прецедентный характер обеих этих картин для анекдота про чукчу в достаточной степени очевиден, во-первых, в силу самого выбора главного действующего лица: из всех народов, которые в рамках русской великодержавной традиции могли рассматриваться в качестве кандидатов на роль дикаря par excellence, эту роль было суждено сыграть именно чукчам. Во-вторых, анекдотическая традиция усвоила и использовала ряд значимых элементов исходного кинодискурса, вполне опознаваемых даже в таком, прошедшем через жанровую трансформацию виде. При этом обе эти картины — каждая в рамках своего периода — имели статус «современной классики» и пользовались большой популярностью у зрителя, что, несомненно, облегчило формирование на их основе очередной анекдотической традиции: модель, вообще крайне продуктивная в генезисе советского анекдота — но не в случае с анекдотом этническим. В отличие от других стереотипизированных персонажей этнических анекдотов (еврея, грузина, украинца и т. д.), чукча — единственный безусловно кинематографический по происхождению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
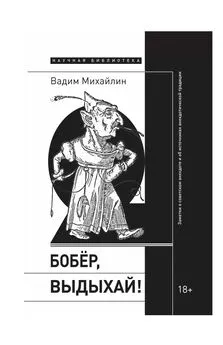

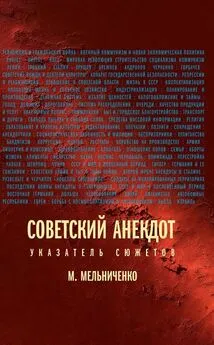
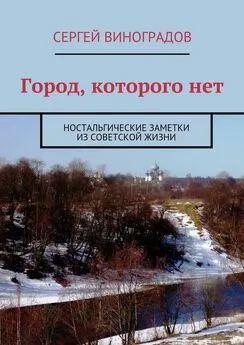

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/1072760/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918.webp)