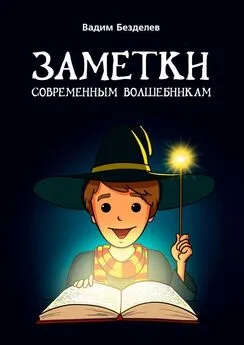Вадим Михайлин - Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции
- Название:Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2022
- ISBN:978-5-4448-1673-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Михайлин - Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции краткое содержание
Вадим Михайлин — филолог, антрополог, профессор Саратовского университета.
В книге присутствует обсценная лексика.
Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобные аномалии должны иметь объяснение, и ключом к такому объяснению обычно служат системно значимые для данной жанровой разновидности смысловые элементы, которые либо не встречаются в других тематически близких анекдотах, либо не играют в них принципиально значимой роли. В анекдотах про чукчу таким элементом является непременное столкновение двух тематических областей — «цивилизации» и «дикости». Обыгрываться это столкновение может очень по-разному, но вне его анекдоты про чукчу не существуют.
Анекдот про чукчу являет собой заповедник советского колониального дискурса: модус может быть разным, от прямой трансляции колониальных стереотипов до тотальной их деконструкции, но сам по себе колониальный дискурс остается для анекдотов данного типа системообразующим. Что, собственно, не должно вызывать удивления, поскольку прецедентный для этой традиции кинотекст, «Алитет уходит в горы» Марка Донского, на колониальном дискурсе построен чуть более, чем полностью. Ключевой для этого фильма сюжет о двух больших, красивых и правильных во всех смыслах слова белых людях, которые привезли «людям холода и голода» «новый закон жизни», даже начинается весьма показательным для колониальной приключенческой традиции образом: белый человек спасает жизнь дикаря в его же, дикаря, среде обитания — и тем немедленно приобретает и верного Пятницу, и право на всеобщее уважение со стороны других дикарей.
Кстати, именно сюжет, сталкивающий две модели поведения, «дикарскую» и «цивилизованную», в тундре (или в тайге — что лишний раз свидетельствует о том, что «чукча» есть фигура максимально обобщенная, сконструированная на уровне обработки крайне общих и не связанных с повседневностью представлений, вынесенных из «колониального» кино, и обозначающая «дикаря вообще», а не представителя конкретной этнокультуры), станет одним из наиболее продуктивных в анекдоте про чукчу. В тех разрабатывающих эту тему анекдотах, которые некритично транслируют колониальный дискурс и, судя по всему, представляют более раннюю стадию формирования традиции, сложившуюся в рамках непосредственной культурной реакции на фильм Марка Донского, это противопоставление служит для демонстрации поведенческой и когнитивной неадекватности «дикаря». Вот, например: Двое чукчей в тайге заблудились. Один другому говорит: «А русские в таких случаях знаешь, что делают?» — «Что?» — «Стреляют в воздух». — «Давай и мы стрелять будем». — «Давай». Стреляли-стреляли, потом второй говорит: «Давай больше не будем в воздух стрелять?» — «Почему?» — «Стрелы кончаются».
В тех анекдотах, которые сложились в рамках более поздней, деконструирующей традиции, распределение ситуативно адекватных и ситуативно неадекватных реакций между персонажами, представляющими, соответственно, «цивилизацию» и «дикость», происходит диаметрально противоположным образом.
Приезжает на Чукотку тренироваться биатлонист. Утром встал — и на лыжах с винтовкой круги нарезать. Подходит чукча: «Скажи, чужой человек, а что ты тут делаешь?» — «На лыжах бегаю, из ружья стреляю». — «А зачем? Тебе что, в городе есть нечего?» — «Нет, мне за это на олимпиадах медали дают». — «Хороший охотник?» (Исполнитель уважительно кивает.) «Ну, хер с тобой, пусть охотник». (Исполнитель кивает раздраженно.) «Тогда завтра на охоту пойдем, моя тебе хороший медведь покажет». Ну, с утра встают, из стойбища выходят и бежать. Десять километров бегут, двадцать, тридцать. Биатлонист не отстает. Чукча на него так с уважением (исполнитель оборачивается в сторону и в прежней манере уважительно кивает). Через пятьдесят километров — медведь. Чукча разворачивается — и от медведя (исполнитель делает акцентированный жест). Биатлонист за ним. Медведь бежит за ними. Десять километров, двадцать, тридцать. На тридцатом километре биатлонист думает: а какого хуя? Останавливается, винтовку с плеча р-раз, и медведя в глаз с одного выстрела насмерть. Чукча останавливается (исполнитель неодобрительно качает головой): «А говорил — твоя охотник. Теперь тащи его двадцать верст». Столкновение «примитива» с модерностью в анекдотах про чукчу происходит прежде всего на дискурсивном уровне: элементам «цивилизованного» дискурса, которые так или иначе помещаются в «природный» контекст, придается контринтуитивное поведенческое наполнение. «Прямое» прочтение этой модели предлагает, как нетрудно догадаться, первый из прецедентных кинотекстов. В «Алитете» одной из устойчивых характеристик чукчей является достаточно специфическая манера «переназывания» реалий цивилизованного мира, некритически позаимствованная из традиции американского вестерна, как кинематографической [91], так и литературной [92]. Неотъемлемая от этой традиции «огненная вода» дает образец для формирования других подобных конструкций («женитьбенная бумага»). Четко отсылает к вестерну и эпизод с присвоением одним из персонажей-чукчей «белого» имени, имеющего в данном случае еще и выраженное символическое значение: «туземное» имя Вааль (которое в сознании советского зрителя, знакомого с большевистской риторикой, не могло не ассоциироваться с библейским Ваалом, персонажем, наряду с Маммоной, активно использовавшимся для демонизации «мирового капитала») меняется на Владимир, имя Ленина. Сам эпизод подается через призму подчеркнуто «этнографического» взгляда, с ироническими обертонами «дикости» и «детской непосредственности», заданными взглядом включенного наблюдателя, «русского начальника». В анекдоте чукча также регулярно переводит элементы цивилизованного дискурса в контекст нарочито примитивизированных понятий и аттитюдов, за счет чего главным образом и создается комический эффект с выраженным колониальным подтекстом.
Идет чукча, идет по тундре, смотрит — геолог. «Ты кто?» — «Я начальник партии». Чукча карабин с плеча р-раз, шарах! и геолога насмерть. Потом трубку набивает, раскуривает и говорит так раздумчиво (исполнитель изображает экранную манеру артиста, играющего этнический типаж «старого мудрого дикаря»)’. «Враг, однако. Чукча знает, кто начальник партии».
Идет чукча, идет по тундре, смотрит — геологи вышку буровую устанавливают. Подходит к старшему и говорит: «Что твои люди делают?» — «Бурят». (Исполнитель изображает экранную манеру артиста, играющего «хитрого дикаря»)’. «Эээ, начальник, не пизди. Бурят не так делают».
Взяли в антарктическую экспедицию чукчу — как специалиста по ездовым собакам. Проходит неделя, другая, потом вдруг чукча исчезает. День нет, два нет, на третий день решили уже вертушку поднимать. И тут — идет чукча, морда довольная, песни поет. И — за работу, как ни в чем не бывало. День проходит, другой, третий. Чукча как-то задумываться вроде начал. Подходит к нему начальник и спрашивает: «Ты чего такой?» — «Скажи, начальник. А женщина белый-белый, совсем белый бывает?» — «Ну бывает, да». — «А черный-черный, совсем такой черный бывает?» — «Ну и такие бывают». — «А вот когда половина такой белый-белый, а половина черный-черный?» — «Нет, таких не бывает». (Исполнитель задумчиво морщит лоб, потом вздыхает): «Значит, это не женщина. Значит, пингвин был».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
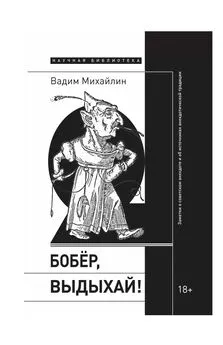

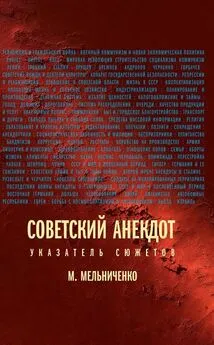
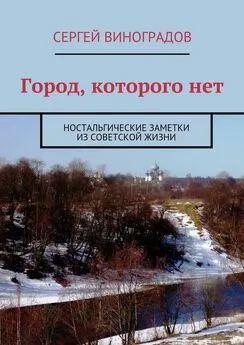

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/1072760/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918.webp)