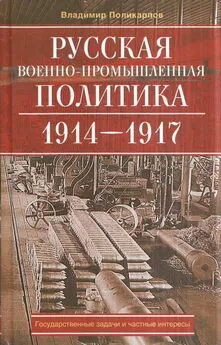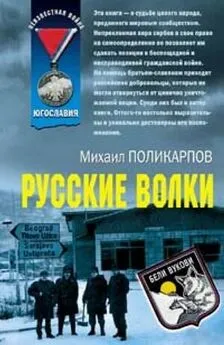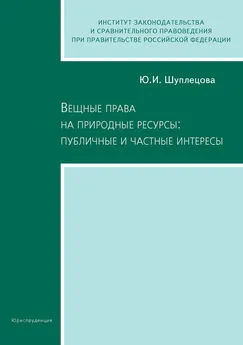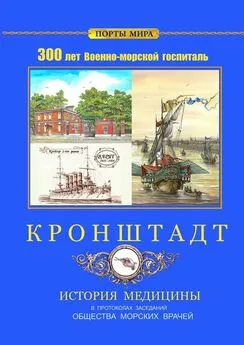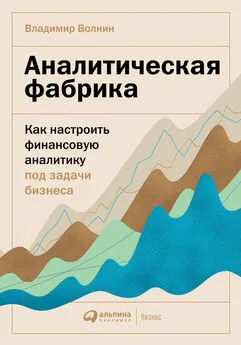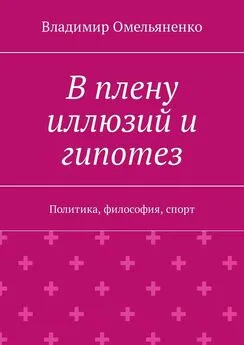Владимир Поликарпов - Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы.
- Название:Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-06136-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Поликарпов - Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы. краткое содержание
Состояние военной промышленности может служить показателем уровня экономического и культурного развития страны. Насколько успешно Российская империя снабжала свою армию винтовками, орудиями, боеприпасами? Чем были вызваны провалы в этой области? В какой мере удавалось возместить недостающее союзническими поставками? Поиск ответа на эти вопросы до сих пор является исследовательской задачей. Требуется отделить точно установленные данные, обоснованные источниками факты от надуманных построений, проследить реальную судьбу крупных замыслов и проектов, взаимодействие государственных структур и независимой от власти общественной инициативы. Развитие военной промышленности рассматривается в книге в связи с политическими и стратегическими решениями, в свете духовных традиций русской монархии.
Книга рассчитана на специалистов в области военной и экономической истории, а также на всех, кто интересуется историей российских вооруженных сил, причинами кризиса власти накануне 1917 года.
Русская военно-промышленная политика. 1914—1917. Государственные задачи и частные интересы. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Статистическим источником, позволяющим судить о динамике индустрии военных лет, является промышленная перепись 1918 г. Д. Джоунс привел показатели, свидетельствующие о совокупном, по всем отраслям, росте: если принять 1913 г. за 100%, то 1914 г. дает повышение до 101,2, 1915-й — до 113,7, 1916-й — до 121,5, а 1917-й — падение до 77,3. Именно в таком виде итог переписи представлен у Стоуна, откуда и перешел к Джоунсу, Макнилу и А.И. Уткину {71} 71 Stone N. The Eastern Front. P. 209; Jones D.R. Imperial Russia's Forces at War. P. 270; McNeill W.H. The Pursuit of Power. Technology, Armed Force, and Society. Chicago, 1982. P. 329; Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2013. С. 234. Джоунс вслед за Стоуном относит в заголовке таблицы ее показатели к экономике в целом (у Уткина речь идет об «экономическом производстве»), тогда как в общем для всех этих авторов литературном источнике, у Сидорова, говорится о промышленности (у Стоуна это, впрочем, очевидно из контекста); X. Стрэчен, как и Джоунс, идет дальше: те же цифры он трактует как рост национального дохода (Strachan H. The First World War. Oxford U.P., 2001. Vol. 1. P. 1094).
. Но использование сведений Стоуна, даже когда он ссылается на источник, требует обязательной проверки. В данном случае Стоун ссылается на таблицу «Промышленное производство в России в 1913–1917 гг.», составленную по материалам переписи 1918 г. и приведенную у А.Л. Сидорова. Как же поступил он с этим источником?
Во-первых, отброшены все высказанные Сидоровым критические замечания о степени достоверности приводимых показателей. А речь шла о том, что перепись 1918 г. содержит данные «без Урала» и «не охвачен Донбасс», то есть выпали самые проблемные для российской военной экономики районы с их неуклонным на протяжении всей войны сокращением производства металла, отчего по ряду вопросов «данными переписи и вовсе нельзя пользоваться». «Совершенно ясно, что о работе металлургической промышленности и машиностроения, — предупреждал Сидоров, — едва ли можно делать какие-либо выводы на основе только данных этой переписи». Во-вторых, Сидоров обратил внимание на то, что, хотя бы и закрывая глаза на такую «мелочь», принимая эти изуродованные цифры, все же оказывается, что «даже только за три года войны» — исключая 1917-й — общий прирост продукции втрое замедлился по сравнению с предвоенными годами. Как отмечает X. Хауман, пользовавшийся той же таблицей, продукция металлургии по сравнению с 1913 г. упала к 1916 г. почти на 20%, выпуск полуфабрикатов — на 13%, притом что дефицит металла к концу 1916 г. оценивался в 50% {72} 72 Haumann H. Kapitalismus im zaristischen Staat 1906–1917. Königstein/ Ts., 1980. S. 74, 230; Тарковский К.Н. Указ. соч. С. 240.
. Но все это у Стоуна скрыто, потому что, в-третьих, он (а за ним и Джоунс и другие) отсек от таблицы, заимствованной у Сидорова, — и выбросил — ее основное содержание, отраслевые показатели, взяв только итоговую последнюю строку. А отраслевые показатели свидетельствуют (на это и указывает Хауман), что в 1916 г. уже не наметилось, а состоялось падение производства в горной и горнодобывающей промышленности (даже не считая Урала и Донбасса) с 1019,3 до 941,3 млн. руб., еще более значительное — в добыче и обработке камней (а это значит — в заготовлении цемента, огнеупорного кирпича, бутового камня, абразивных материалов), текстильной и чуть ли не во всех других отраслях, ш исключением собственно военных — металлообработки, химии и производства смешанных волокнистых веществ (то есть взрывчатки и пороха) {73} 73 Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 346, 349, 350.
. Именно рост военных производств создал ложную видимость общего процветания, представленную в итоговой последней строке. Но тому, кто принимает за истину итоговые цифры Стоуна, нет оснований сомневаться в отброшенных им составляющих.
Таким образом, разграничить последствия войны и революции все же в какой-то степени возможно, даже довольствуясь столь неполноценными источниками. «На первый взгляд, — пишет Хауман, — бросается в глаза резкий спад производства в 1917 г… Однако видно и то, что этот спад произошел уже в 1916 г.; в момент высшего напряжения в важных для войны отраслях, в частности в металлообработке, — темп роста замедлился. Детальный анализ, далее, показывает, что не позднее 1916 г. резервы роста иссякли и ускорялся развал производства» {74} 74 Наитапп Н. Op. cit. S. 72.
. Таким образом, неверно было бы считать, что «революция и борьба рабочих за повышение заработной платы создали экономический кризис в стране, подорвали развитие промышленности. Наоборот, Февральская революция 1917 г. была ускорена экономическим кризисом». Этот вывод Сидорова {75} 75 Сидоров А.Л. Указ. соч. С. 362.
может показаться сформулированным по-советски ортодоксально-догматически, но по сути он не может быть аргументированно оспорен. Экономика не «демонстрировала многие признаки подъема» (Никонов), а шло, наоборот, «разрушение материальных ценностей», «истощение производительных сил» из-за роста специальных военных производств {76} 76 ЭПР. Ч. 2. С. 7;Ч. 1. С. 247.
. «Видимость общего подъема» создавалась именно за счет форсированного изготовления предметов вооружения {77} 77 Тарновский К.Н. Указ. соч. С. 208; Сидоров А.Л. Экономическое положение России. С. 349, 350.
. [14] Существовал и другой источник «видимости» подъема, касающийся добычи угля в Донбассе. В 1916 г. под влиянием затруднений с вывозом угля из-за неподачи вагонов железными дорогами шахтовладельцы прибегали к ухищрениям, преувеличивая размер скопившихся у них запасов в четыре-пять раз, чтобы иметь возможность направить соответственно завышенную заявку на подвижной состав. Этот существовавший лишь на бумаге уголь служил «базой для официальной статистики», — свидетельствовал граф А.И. Череп-Спиридович, владелец нескольких шахт в Таганрогском округе. Статистикой Министерства торговли и промышленности ведал В.П. Семенов-Тян-Шанский. Выясняя состояние запасов угля на местах, он разослал шахтовладельцам анкету и получил «ответы, за качество которых, конечно, ручаться было нельзя, но, во всяком случае, результаты были обработаны и напечатаны в секретном порядке» (Череп-Спиридович А.И. Нельзя терять времени // Земщина. 1916. 19 мая; Семенов-Тян-Шанский В.П. То, что прошло. М., 2009. Т. 1. С. 632). При всех известных особенностях черносотенной печати в качестве источника и возможных в этой связи преувеличениях автор сообщения в «Земщине» указывал на реальную проблему.
Если, не удовлетворясь «видимостью», перейти к сути, то «эпоха подъема» для экономиста и статистика отличается тем, что в это время происходит рост производства средств производства, идет накопление капиталов и усиливается строительство. Так считал Л.Б. Кафенгауз и пояснял важное различие между средствами производства и орудиями разрушения: «Однако вряд ли кто-либо решится включить в последнюю группу явлений», то есть в производство средств производства, изготовление «пушек, снарядов и взрывчатых веществ, уничтоженных во время войны», в 1914–1918 гг. Как писал Кафенгауз, в условиях войны заявила о себе «диспропорция в развитии военной и прочей тяжелой промышленности», эта диспропорция «неизбежно должна была повлечь за собой общее сокращение всей тяжелой промышленности». Хотя падение производства в 1917 г. было обострено революционными событиями, «тем не менее и вне этого фактора производство неизбежно должно было сократиться под влиянием недостатка сырья, полуфабрикатов, разных материалов и под влиянием расстройства заводского хозяйства. Горы пушек, снарядов и взрывчатых веществ не могут затмить тех разрушительных процессов, которые, несмотря на все усилия, систематически сокращали производительные силы» {78} 78 Кафенгауз Л.Б. Указ. соч. С. 208, 195.
.
Интервал:
Закладка: