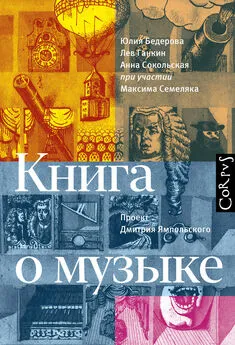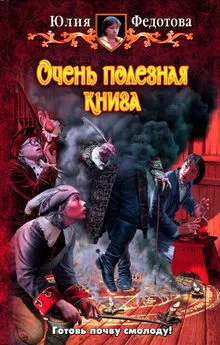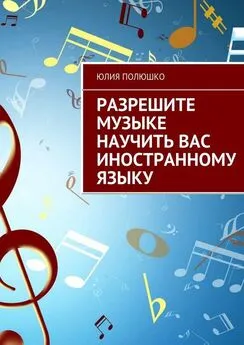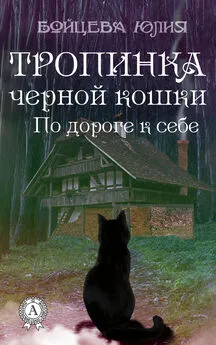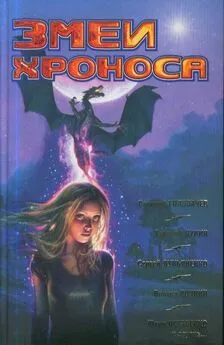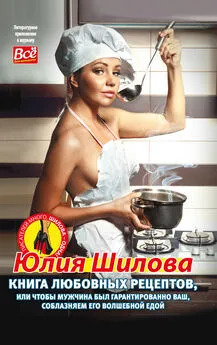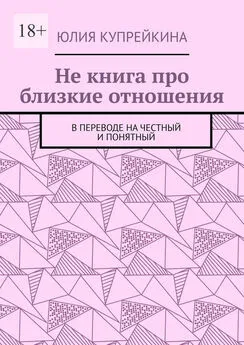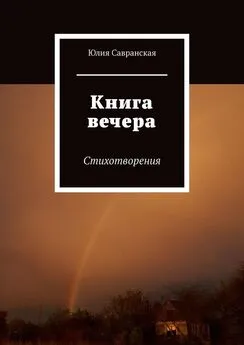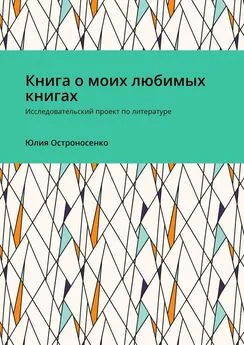Юлия Бедерова - Книга о музыке
- Название:Книга о музыке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133050-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Бедерова - Книга о музыке краткое содержание
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Книга о музыке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И если человек отныне сам определяет смысл и форму собственной жизни, то искусство тестирует идею взгляда, точки зрения, человеческого ракурса, с которого могут открываться целое и детали, перспектива и объем. Отсюда новый уровень конкретики, неизвестный средневековому искусству: на картинах Возрождения – узнаваемые виды сельской Италии разной степени детализации вместо абстрактного пейзажного фона. И музыка, склонная к сугубо светским сюжетам, вплоть до автобиографических, без стеснения регистрирует неповторимые детали частных событий – будничных и праздничных, потайных и многолюдных, независимо от того, выглядит ли повод богоугодным: один из самых известных мотетов Дюфаи “Nuper Rosarum Flores” написан в честь торжественной церемонии освящения купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, но были и другие, как тот же судебно-протокольный “Juvenis Que Puellam” .
Человек – тот самый, который, по Протагору, является мерой всех вещей (эта мысль ласкает слух ренессансному горожанину), – больше не видит себя одним из многих элементов в непостижимом механизме мироздания: Ренессанс реабилитирует его идеи и чувства; венец творения больше не обязан быть скромным.
Не только на светские, но и на традиционно церковные жанры ложится отсвет живости и секулярной свободы: поводом для мотета теперь мог быть, например, день рождения или день смерти знатного горожанина. А может быть, и не знатного: уже в конце XV века Якоб Обрехт напишет мотет на смерть своего отца Виллема Обрехта – так, вероятно, впервые чести быть запечатленным в музыке удостоится не аристократ или богослов, а простой трубач на службе у города Гент.
При этом текст мотета ничуть не скромнее обычного – композитор провожает отца в последний путь со всеми приличествующими моменту скорбными почестями:
По прошествии пятнадцати сотен минус дважды по шесть лет / с Рождества Христа, родившегося от Девы, / Сицилийские музы рыдали, когда Судьбы унесли / Виллема Обрехта, украшенного великой честностью, / во время праздника святой Цецилии, когда он по сицилийскому путешествовал / берегу; того самого, который подарил музам орфического Якоба: / Потому сладко пой эту песнь, прекрасный хор басов, / чтобы душа его была взята на небо и получила венец.
Второй план текста считывался легко: словосочетания “сицилийские музы” и “судьбы унесли” – прямые отсылки к Вергилию; себя самого композитор без ложной скромности уподобляет Энею, благочестивому сыну, вынесшему старика-отца из захваченной Трои на руках. Обрехт наделяет себя эпитетом “орфический”, фиксируя в тексте, что его дар миру прежде всего музыкальный, а призвание композитора – производство звуков, услаждающих слух, воздействующих на мир, и этого вполне достаточно.
Ренессансные мотеты и мадригалысочиняют живые люди, а их характер отражается в звучании. История ренессансной музыки – яркая портретная галерея: вот “орфический” Обрехт, вот вспыльчивый Жоскен Депре, вот безумный Джезуальдо, а вот просветленный Палестрина; спутать их музыку невозможно, даже не зная соответствующих биографических или технологических подробностей.
Состав их музыки меняется, следуя за сдвигами в мировоззренческом фундаменте эпохи. Прочный средневековый сплав античной космогонии, аскезы и эсхатологического мистицизма, до прозрачности размытый во времена Ars nova и маньеризма, забыт совсем, а античные философы переоткрыты заново. На сцену выходят гуманистические идеалы и всесильное любопытство к жизни. Она мыслится пространством бесконечных возможностей, бесконечность в свою очередь влечет за собой немыслимый восторг, а вскоре и незнакомую тревогу, открытия совершаются практически ежедневно, их смысл и центр – человек, его способность взаимодействовать с реальностью, возможности и пространство вокруг и внутри него.
Когда Колумб открывает Америку, Леонардо да Винчи открывает заново телесность и предметную реальность вплоть до мелочей, придумывая проект летательного аппарата или сущую безделицу: современные ножницы, которыми можно орудовать одной рукой, – одно из многих десятков изобретений художника, чья мастерская стала своего рода инновационным центром, Кремниевой долиной Ренессанса.
Когда живопись исследует третье измерение, а литература – живую речь и сюжетную достоверность (героями шекспировских сюжетов или сцен из “Декамерона” Боккаччо можно представить даже современных людей, чего не скажешь про “Песнь о Роланде”), музыка ищет новые формы и новую логику, экспериментируя в обоих направлениях – в функциональном (служить человеку) и в структурном (организовывать его отношения с невидимым богом и наблюдаемым пространством).
Полифонический расцвет: с терциями наперевес
Средневековый регламент на глазах растворяется – все интервалы стараниями теоретиков Ars nova были систематизированы по степени убывания совершенства и консонантности (благозвучности) [63] На различении консонансов (воспринимаемых как устойчивые) и диссонансов (воспринимаемых как неустойчивые) будет строиться музыкальный язык вплоть до XX века.
, – а в ренессансную полифоническую практику на основе пифагорейских кварт, квинт и октав (они – эхо небесных сфер) теперь почти на равных помещаются и терции, и сексты, чья прелесть для ренессансного слушателя прежде всего в том, что они красивы, и с их легализацией возрастает и степень свободы композитора.
В духе естественнонаучных теорий и наблюдений за свойствами материи (от “магнитной философии” Уильяма Гилберта и опытов Леонардо до теории познаваемой бесконечности Николая Кузанского – “Вселенная бесконечна, поскольку бесконечен Бог”) постепенно оформляется “естественнонаучная”, эмпирическая логика имитационнойполифонии строгого стиля. Здесь одна и та же мелодическая формула передается от одного голоса к другому, звучит одновременно на разных этажах и в разных голосах в соответствии с точно рассчитанными правилами меняется, имитируется и трансформируется. Она как будто видится с разных точек зрения – в зеркальном отражении, от конца к началу, в сжатии, в расширении и так далее, причем таких формул в беспрерывном процессе имитаций может быть одновременно несколько и опыты над ними бесконечны.
По легенде история знакомства композиторов континентальной Европы с терциями имеет милитаристскую подоплеку: считается, что Гийом Дюфаи и его современники подслушали их у англичан, в частности у Джона Данстейбла. В Англии, на периферии католического мира, культурная римская гегемония вместе с ее музыкальными правилами игры ощущалась слабее. Между народной музыкой и профессиональным церковным искусством не было пропасти, как на континенте, и “небогоугодные” интервалы свободно курсировали между фольклором и вокальной музыкой; английские композиторы заразили “терцовой” красотой бургундских и нидерландских коллег. Не сказать чтобы этот случай культурной интеграции был добровольным: англичане – и Данстейбл в их числе – высадились на континенте в ходе Столетней войны; музыкальное просвещение (Данстейбл работал во Франции и обучал бургундских музыкантов) осуществлялось едва ли не на поле брани.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: