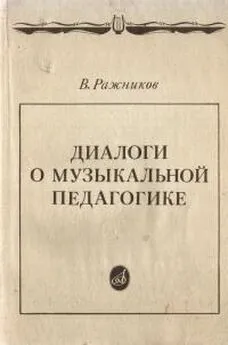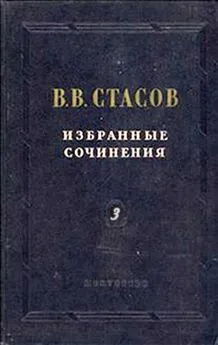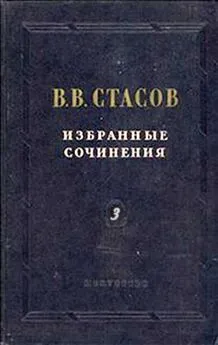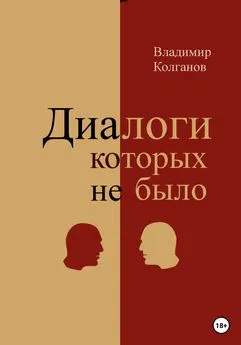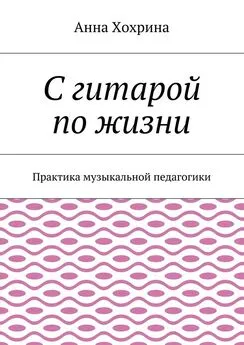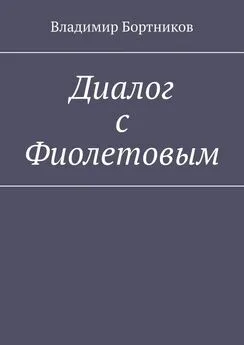Владимир Ражников - Диалоги о музыкальной педагогике
- Название:Диалоги о музыкальной педагогике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Музыка
- Год:1989
- Город:М
- ISBN:5-7140-0307-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ражников - Диалоги о музыкальной педагогике краткое содержание
Диалоги о музыкальной педагогике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сомнение - личностное чувство. Сомневаются исключительно в личностных, персональных вещах, но не в ”трактовке” как таковой. Рихтер говорил о сомнении — сомнение должно возникать на очень высоких уровнях постижения музыки. Для ”звезд средней руки” сомнение — гибель.
Само действо высокой игры (очевидно, проявляющееся у редких, исключительных музыкантов) есть то духовное знание, в котором ”много печали”. Здесь надо понимать и глубже и шире наших значений слов. Здесь знание — не информация с ее формальными признаками и ”печаль” — не настроение грусти и тоски, а высокое сомнение — большое мировоззренческое откровение, посетившее музыканта при выходе его в открытый смысл (может быть, как в открытый космос, но без скафандра...).
Репетиция — болезнь?
В.: Мы говорили о высоком сомнении. Но и у редкого чувства есть свой путь, возможно, и скрытый от наших глаз и душ. Однако музыкальная педагогика, уделяя внимание высоким вещам, должна знать все переходные мостики. Ведь едва ли психотехника формируется сразу в концертном выступлении. Она, очевидно, формируется, отрабатывается в репетиционный период? Можно ли сказать, что интенсивность художественного сознания в репетиционный период значительно ниже, чем в момент, так сказать, героического поступка — концертного выступления? Не так ли?
О.: То есть, художника меньше — мастерового больше? Да, это очевидно. Но в репетиционной работе есть другие особенности, достаточно экзотические даже с точки зрения психотехники.
Психологически это совершенно особый этап — добровольное заболевание и систематическое лечение вместе взятые.
Вы музыкант, ходите нормальным и здоровым, потом с вами случается нечто — собираетесь выучить сонату. Касаетесь ее, увлекаетесь, заражаетесь и... заболеваете. ”3аразиться” и ”заболеть”, конечно, метафоры, однако в контексте этого рассуждения они несут и другой смысл — прямой.
В.: В чем же состоит заболевание, заражение и прочее?
О.: Если мы говорим о хороших плодотворных традициях, то ”работа” над произведением - это прежде всего объединение с ним. Здесь очень кстати вспомнить субъект-субъектные отношения. Попросту, музыкант — живое существо, человек; и произведение не какой-то отчужденный объект, оно — тоже одухотворенное явление. Одухотворяет его человек. Это похоже на то, как высаженные в землю зерна, добытые из египетских гробниц, вдруг прорастают. В них жизнь была заложена, хранилась века. То же и с музыкой: человек одухотворяет сонату, оживляет то, что в ней заложено...
Итак, музыкант объединяется с произведением, заражается им (или от него, что то же самое), заболевает. Прежде всего его температурит. Он воспален - слишком большая прибавка его энергетической сфере. Заболеванием это можно назвать потому, что все временно разладилось. Соната, которую ученик взялся учить, не сыграется сразу эстетически совершенно для всех и ясно для ученика.
Если исходить из того, что в нашем исполнении она должна прозвучать как некое органичное целое, то в момент, когда вы только начали с ней работать, соната еще нечто неопределенное. А соединенная с вами, она и вас — ваше сознание, чувственную сферу, волю, воображение — делает неясными, замутненными. Произведение оказалось как бы разобранным, и вы не можете еще объединить его своей личностью. Все вопиет, не ладится, не укладывается в формы движения, да и сами движения судорожные, с остановками и повторами. Цель видна смутно. Образ клочковатый. Явное недомогание. Разве это не похоже на заболевание?
Но в болезни сразу заложено и лечение. Сказать иначе, болезнь дается нам для выздоровления, для работы. Печальна ситуация, когда мы заразиться-то заразились, заболели, но плохо лечимся или вообще неправильно используем данный нам бюллетень...
В.: В более точном смысле, лечение, видимо, и есть психотехника. Как раз здесь и нужны совершенно определенные приемы работы-лечения.
О.: Репетиция - это болезнь и выздоровление. Концертирование для артиста - это норма.
Что касается лечения, то известно: лучшее лекарство — это правильный образ жизни. Поскольку в нашем как бы аллегорическом примере музыкант правомерно соединен с произведением, то и лечение здесь будет через понимание. Психотехника наиболее точно должна пониматься как техника общения педагога с учеником. Общения ученика с музыкальным произведением. И здесь важен внутренний мир этой музыки. Музыкальное произведение — живое, пульсирующее, одухотворенное волей и фантазией исполнителя явление. В нем много субъективированных слоев. Общение в этих ”измерениях” в контексте органичного мастерства, формирование замысла и умения перенести его на ту общность, которую теперь представляют собою соната и музыкант, - это и есть путь к той мере совершенства. Здесь артист честно и открыто движется навстречу смыслу.
Сила чувства и сила звука
В.: Эмоциональная отзывчивость на музыку понимается нами как всестороннее ”оформление отношений” музыканта с произведением, как окраска его деятельности особым пристрастным тоном, как выделение музыки вообще из всяких видов деятельности. Не обедняем ли мы эмоциональную сторону натуры музыканта? Может быть, еще какая-то особая функция свойственна эмоциональной стороне музыки и музыканта? Не входит ли эмоциональная отзывчивость в те или иные приемы ”психотехники"?
О.: Действительно, у эмоциональной отзывчивости есть многие другие возможности. Вот что в этом явлении не исследовано.
Исполняемая музыка, как известно, в той или иной мере окрашена нашим чувством - отношением. Но не просто окрашена. Чувства в сущности представляют один из пластов энергетического обеспечения. Можно назвать эту энергию тонкой и отнести ее к психотехнике. Так, в музыкальном исполнении существует некое соотношение между силой звука и силой чувства. Для практического музицирования это очень важно. В определенных допущениях эту закономерность можно выразить так: мере чувства должно соответствовать столько же или меньше меры звука.
В.; Да это имеет прямое отношение к характеру ”сильной игры"!
О.: В том-то и дело. Когда звука больше, чем чувства, получается крик, стук, прорыв сил нехудожественного порядка. Когда же некая доля силы чувства остается внутри, то есть звука во время игры было меньше, чем вызвавших его чувств, тогда успевает возникнуть, ”настояться” понимание.
Всякая исполнительская мощь: сила, громкость, большой объем звучания - все это должно опираться на определенный внутренний энергетический запас. Все должно быть обеспечено количеством энергии внутреннего замысла.
Можно это положение проиллюстрировать примером из жизни. Вы завариваете чай. Наливаете из заварного чайника в чашки. Потом доливаете в оставшееся количество заварки кипятку - и чай не теряет своего качества. Но если вы выльете из заварного чайника сразу всю заварку, то потом сколько ни доливай, ничего не получится - надо начинать все сначала. Этот пример подходит к нашей ситуации с энергетическими тратами во время игры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: