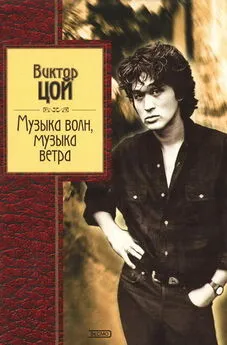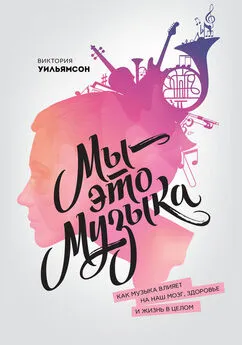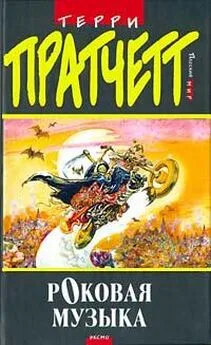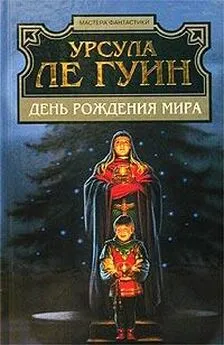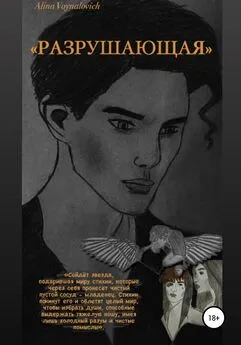Аркадий Лисенков - Музыка созидающая и разрушающая
- Название:Музыка созидающая и разрушающая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1989
- Город:М
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Лисенков - Музыка созидающая и разрушающая краткое содержание
Музыка созидающая и разрушающая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэтому предложенное Л. Б. Переверзевым и рекламируемое И. Смирновым сопоставление фольклорного и академического типов творчества вызывает некоторое недоумение. Строится оно по принципу «полюсности», антитезы. Начнем с первого пункта: дилетантизм — для фольклорного типа, профессионализм — для академического типа.
Научная посылка ложна в своей основе. Крупнейшие носители традиционной народной культуры по уровню своего мастерства (если хотите — профессионализма) стояли намного выше не только профессиональных недоучек, которыми — пруд пруди, но и профессионалов средней руки. Они и были истинными творцами. Остальные — носители традиций. Свидетельством же того, что официальный профессионализм далеко не соответствует уровню мастерства, является хотя бы тот факт, что тысячи создаваемых ежегодно поэтами и композиторами-профессионалами песен не находят своего адресата и не становятся достоянием масс, в то время как песни, созданные народными творцами много сот лет назад, живы до сих пор, поются народом и оцениваются как свои.
Вторую оппозицию составляет импровизация — композиция. Более абсурдное противопоставление трудно придумать. Во-первых, импровизационность не характерна для абсолютного большинства песенных жанров фольклора. Более того, жанровая специфика, определенная, в первую очередь, вербально-магической функцией, требовала неприкосновенности традиционных текстов и напевов (обрядовые, календарные и свадебные песни), считалось, что заговор, при малейшем отклонении от канонического текста, терял свою силу.
Но даже импровизационные жанры (похоронный плач, свадебный причет и др.) должны были строго соответствовать закрепленным традицией художественным стандартам. Импровизационность не противостоит и не может противостоять композиции, она является средством достижения композиционного совершенства, предопределенного традицией.
Третья оппозиция: анонимность — авторство.
Анонимность, конечно же, является одним из признаков фольклора. Но она отнюдь не исключает авторства и не противостоит ему. Давным-давно по праву обрели статус народных сотни песен, созданных профессиональными поэтами: «Узник» А. С. Пушкина, «Среди долины ровныя» А. Ф. Мерзлякова, «Ревела буря, дождь шумел» К. Ф. Рылеева, «Хуторок» А. В. Кольцова, «Молода еще я девица была» Е. П. Гребенки, «То не ветер ветки клонит» С. И. Стромилова, «Шумел, горел пожар московский» Н. С. Соколова, «Славное море — священный Байкал» (в основе текста песни — стихотворение Д. Давыдова), «Хаз-Булат удалой» А. Н. Аммосова, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», «Сиротою я росла, как былинка в поле» И. 3. Сурикова и многие другие. Да и собственно народное коллективное творчество не исключает индивидуального начала.
Четвертая оппозиция:стихийность — институализация (система образования, жесткие рамки).
Стихийность народного творчества — признак чисто внешний, и ему нельзя противопоставить «систему образования, жесткие рамки». Начну с последнего. Профессиональное искусство допускает и даже предполагает «сценическую исполнительскую трактовку» (прочтение) художественного произведения. Для народной культуры вообще, а для песенной особенно, характерны более «жесткие рамки», чем для профессионального искусства.
В своей собирательской практике я неоднократно сталкивался с парадоксальным на первый взгляд явлением: носители различных песенных стилей более ста лет проживают в одной деревне (селе), но свято сохраняют свой песенный репертуар, свои напевы, свою манеру исполнения и не принимают иной песенный стиль. Разве это не проявление «жестких рамок»?
Но главное даже не в этом. Произведение фольклора, новый фольклорный жанр не появлялись на свет, если на них не было ясно выраженного социального заказа, определявшего к тому же, довольно жестко, художественные параметры.
О выделении профессионального искусства «в особую сферу» стоит поговорить отдельно. Выключенность из быта, отсутствие бытовых функций предопределяют быстротечность, нежизнеспособность даже высокохудожественных произведений, созданных талантливыми профессионалами. Жизнеспособность фольклорных произведений, переживших многие века, как раз и поддерживала их бытовая функциональность. Еще в прошлом веке крупнейший филолог Ф. И. Буслаев писал: «Если бы народная поэзия ограничивалась одними эстетическими интересами, она бы давно уже иссякла в своих источниках, она бы с течением времени пропала». Именно это мы и наблюдаем в наше время. Ежегодно создаются профессиональными поэтами и композиторами тысячи песен, вполне выдерживающих художественные параметры, но они бесследно исчезают, на поверхности остаются очень немногие, а произведения, ставшие народными за семьдесят лет, можно пересчитать по пальцам. Разве это не свидетельство бесперспективности выделения «в особую сферу» тех форм творчества, которым по самой логике жизни предопределено органическое «включение в быт»?
Попытка Л. Переверзева и И. Смирнова теоретически обосновать правомерность полярности («полюсности») профессионального и фольклорного типов творчества далеко не безопасно.
И. Смирнов с явным недоумением пишет: «При желании можно называть фольклором только традиционные формы народного творчества» (с. 55). Почему при желании? Традиционность — важнейший и обязательный признак фольклора. Это принято фольклористикой во всем мире, это известно даже студенту-первокурснику.
«Но правильно ли это?— вопрошает И. Смирнов.— Ведь никто не в состоянии, особенно сегодня, в эпоху интенсивнейшего культурного обмена, провести четкую грань между традицией и новацией» (с. 55). Почему же? Никто не может? Есть непогрешимый судья — время. Все, что не выдерживает критики временем, что не станет традиционной частью культуры трудового народа, не может быть отнесено к фольклору. Я не случайно подчеркиваю — культура трудового народа. Некоторые блатные песни выдержали испытание временем, но не стали фактом фольклора, так как выражают мировоззрение и эстетические вкусы и представления не трудящихся, а деклассированных элементов.
Следовательно, критика временем должна быть подтверждена классовой оценкой любого явления культуры.
У И. Смирнова завидная информированность, но ему явно недостает специальных знаний. Иначе он не стремился бы противопоставить фольклорной традиции городскую культуру. В фольклористике общепризнанно, что городской фольклор является частью общерусского. Ссылка на частушку, кадриль, гармонь, баян дела не меняет. Частушка, городская песня появились потому, что в силу исторического развития в середине прошлого века сложились социальные и эстетические предпосылки, обусловившие их появление. Некоторые танцы заимствованы русскими у других народов. Это тоже закономерно. Гармонь пришла из Германии. Верно. Но она не изменила народной культуры. Она стала в ряд с гуслями, балалайкой, гитарой, скрипкой, рожком, бубном и другими музыкальными инструментами. На гармошке исполнялись те же, что и на других инструментах, наигрыши. В основе их лежат напевы народных песен. Проголосные необрядовые, обрядовые песни по-прежнему пелись без музыкального сопровождения. Плясовые же песни, танцевальные наигрыши гармонь обогатила своим влиянием. Иными словами, гармонь влилась в готовое фольклорное русло.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
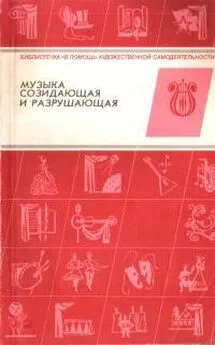

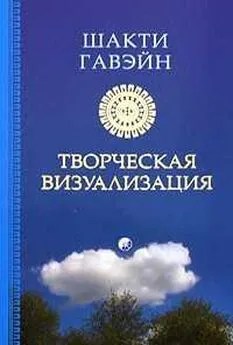
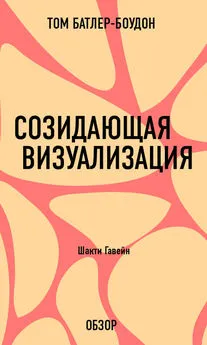

![Аре Бреан - Музыка и мозг [Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект]](/books/1068692/are-brean-muzyka-i-mozg-kak-muzyka-vliyaet-na-emoc.webp)