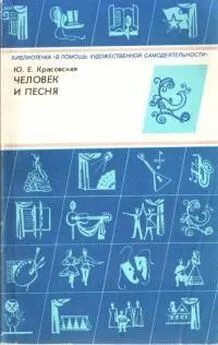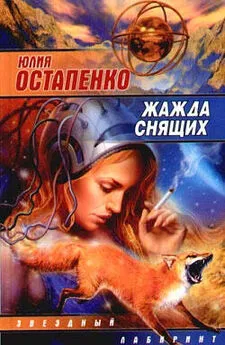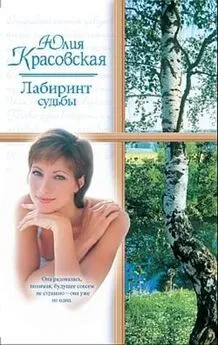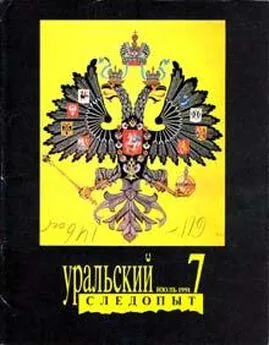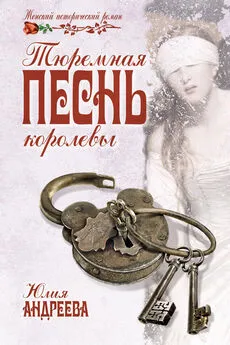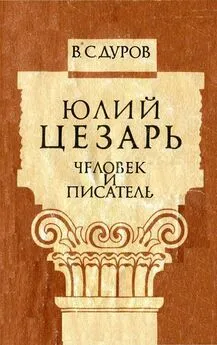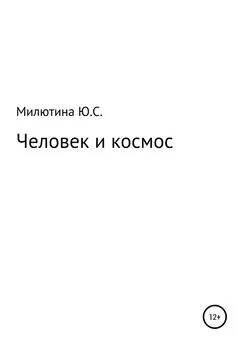Юлия Красовская - Человек и песня
- Название:Человек и песня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1989
- Город:М
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Красовская - Человек и песня краткое содержание
Самодеятельные фольклорные коллективы (детские, молодежные, взрослые) найдут в книге колыбельные, детские, игровые, протяжные лирические песни, исторические, хороводные, былину... Такие шедевры терского песенного искусства, как хороводная-игровая «Во лузях» и многоголосное эпическое полотно «Москва» («Город чудный, город древний»), в течение уже многих лет украшают репертуар известного самодеятельного ансамбля «Россияночка» ДК АЗЛК и теперь могут приумножить славу любого профессионального хора.
Автор освещает многие стороны крестьянской жизни, специфики народного творчества, подходит к собиранию и изучению фольклора как к комплексной проблеме народоведения.
Человек и песня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ветры примецали каки дуют, знали уж прежны люди, цего ожидать. К примеру, Шелоник «голодным ветром» зовут (он тянет со стороны Кандалакши). Как потянет — никака тут уж рыба в сети не запоходит. Пословиця: «Шелоник задул — вытягивай лодку, суши снасти». А «Север» — тот рыбный ветер. На Мурманськом берегу он с моря тянет, дак его «Моряной» зовут, а у нас — «Север». «Обедник» — тот ветер долго не живет. С им тоже много рыбы не наловишь. Со «В’стоков» и с «Обедников» все больше дожди прибегают. С «Побережника» [74] Побережник — северо-западный ветер (диалект.).
дожди живут мало. «В’сток-ветер живет широк»,— говорили старики. Оногды [75] Оногды — иногда (диалект.).
«В’сток» дожди несет. «Запад», — говорили, любит жонку: вноци, видишь, не падат, не тянёт, нет ёго»...
Четыре оленя и собака — еще далеко не коллекция терских козуль... И как-то зимней экспедицией в славной Варзуге (о ней речь впереди) стала я просить Христину Николаевну Рогозину излепить мне козули. На нее варзужане указали как на мастерицу этого дела. Христина Николаевна отнеслась к моему заказу совершенно серьезно: «Козули-ти можно изладить. Почему нет? Только уж муки надо настоящой, аржаной, самой грубой, ежли даст тебе наш пекарь. Да, поди, не даст, дак...» Но пекарь тоже отнёсся к этому делу серьезно и ржаной муки дал. И вот я сижу в горнице столетнего двухэтажного, с «вышкой» [76] Вышка — чердачная неотапливаемая комната.
дома Христины Николаевны и с волнением слежу, как рождаются козули в ее пальцах — негнущихся, натруженных, похожих на узловатые корни. Сначала кусочек теста, еще не приняв определенной формы, как будто на глазах одушевляется, становится теплой плотью. Большие серо-синие глаза Христины Николаевны — совсем молодые на добром, морщинистом и чуть одутловатом лице («сердце да астма замучили, дак...») по-особому светятся, как у женщин, обиходящих телят, ягнят, козлят, дитяшей домашней скотинки. Руки работают споро и ласково. Кажется, сами по себе появляются немного неуклюжий крепкий торс животного, четыре ноги, голова. Работа идет поэтапно, как в профессиональном творчестве: крупный, средний планы и, наконец, проработка деталей. «Вот мы тебе ножки... ножки изладим. Рожки... глазы наметим. Пущай глядит — не слепому ведь жити... Кто родилсе? Не знашь? Ан-лось, лось, голубеюшка!»
Конь с всадником, лось, бык, корова, тур-баран — златы рога (и это сохранилось в памяти народной, хотя туров давно уже нет), турица златорогая — все эти изображения некогда символизировали солнечное божество древних славян. Мне удалось сфотографировать достаточно подробно процесс лепки лося. С оригинальным искусством Христины Николаевны познакомились тысячи зрителей: выполненные ею козули экспонировались в Москве на I Всесоюзной выставке народного творчества.
А пока пекутся козули в печах у оленицких хозяек, ведут меня к уютному дому Марии Павловны Кожиной: «Запиши нашу «ленинградку». Таково цюдно-удивленно поет, не по-нашему... Быват, уж скоро сорок годов живет тутотка взамужом, а по-нашему не запела. Да и мы по-ейному не споем». С этим явлением я потом не раз встречусь в своей собирательской работе: живя «на чужбине», человек сохраняет песни, обычаи, нравы своей родины и не перенимает чужие. А местный народ не перенимает у «чужаков» их искусство, отдавая ему дань уважения с легким оттенком необидного насмешливого удивления... Чудо, как пела Мария Павловна, застенчивая, скромная женщина с тонкими чертами светлого лица, как будто изваянными скульптором. Она и пела как-то особенно: почти не открывая рта, совсем незаметно шевеля губами, а лицо никак не реагировало мимикой на пение. Голос у Марии Павловны невероятно высокий, чистый, звонкий, «поставленный», напоминающий по тембру голос А. Неждановой. Конечно, я сразу же спрашиваю у Марии Павловны, ее ли это личное свойство (и талант) — петь именно так, или так принято было петь в ее деревне. И получаю ответ: «Девушки да жонки пели высоко у нас в деревни, как жаворонки»... (Мария Павловна не только поет, но и говорит совсем по-иному, не так как здесь, более «литературно».)
Ах! Как у столичка, у стольнова,
Как у зерькальца хрустальнова
Николай-от чесал кудри,
Да свет-Иваныч чесал русыя.
Он чесал-перечасывал,
Своей сестрице наказывал:
— Уж ты, Марьюшка, завей кудри,
Ты Ивановна, русыя...
Это — свадебная величальная песня молодому неженатому гостю. А вот совершенно невероятный жанр: частушки с сопровождением «под губы». Исполнительница объясняет: «Гармони да балалайки не в каждой деревне были. А уже мы слыхивали, как на них играют, да как под них частушки поют. И нам будто хочется так же. Так мы языком да губами — будто на гармошке (либо на балалайке) играем. Трое-четверо девок тенькает да тренькает музыку — вот те и балалайка. Одна-две частушки поют... От бедности придумали, видишь, выход из положения (а я не устаю удивляться безмерной талантливости народной, умению даже бедность претворить в богатство).
— А тан-на-на, на-на-на-на-на-ны, та-на-на-на (непостижимо быстро, виртуозно),— затенькала да затренькала, совсем как на балалайке, Мария Павловна.
Та-на-на-ны-на, на-на-на-на, ты-ны-ны-на [77] См. приложение 10.
И вы поверьте, сердцу больно,
Если влюбиссе в кого... (Ох!)
И в полчаса влюбиться можно,
А росстаться тяжело... (Ох!)
И милой знал, в кого влюблялся,
Не в богатую — в меня... (Ох!)
А он три года отдалялся,
Думал, стану плакать я... (Ох!)
Я по деревенки иду,
Да про себя слышу беду. (Ох!)
И про молодую меня
В кажинном доме говоря (т)... (Ох!)
Про девчонку люди судят,
Хоть судил бы человек... (Ох!)
А то такия люди судют,
Про которых судят век... (Ох!)
И пойду-выйду за вороты,
Погляжу на островок... (Ох!)
И где-то черненькия глазки
Провожают вечерок... (Ох!)
Дом Марии Павловны (весь в вышивочках, салфеточках, оборочках, с традиционным «иконостасом» фотографий хроники семейной жизни двух-трех поколений семьи под стеклом в большой раме рядом с большим, тоже в раме, зеркалом) полон народу. Слушают иронично-уважительно (и ведь не впервые слышат, но удивляются, словно только-только услышали: «Ишь, выфантывает как, вывяртывает коленця!»).
«Уроженка деревни Бередниково Лужского района Ленинградской области,— старательно выговариваю я в микрофон для магнитофонной записи. Затем то же записываю в тетрадь и, сделав для себя радостное открытие, заявляю вслух: — Мария Павловна! Давайте мы с вами сговоримся и съездим вместе на вашу родину, в Бередниково, там ваши замечательные песни от хора запишем». «Ни-ни! Што ты,— возражает с грустью Мария Павловна, и в углах губ ее впервые проступает что-то похожее на скорбные морщинки.— Нет деревни, голубеюшка, нету ведь! Сожгли в эту-то, в последню войну. Фашисты сожгли дотла. Людей перебили... Может, кто и сохранился где, убежал, да мне неведомо. А я — тут смолоду замужем. Так и сохраниласе... Там ведь и место-то пусто, заросло»...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: