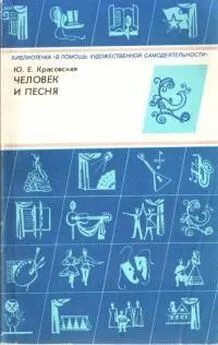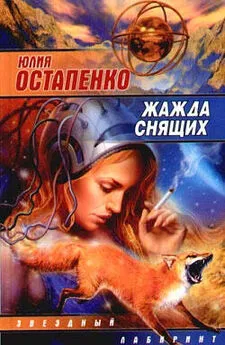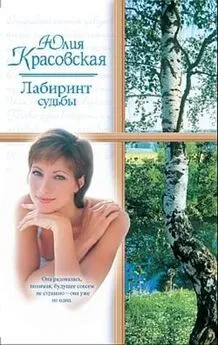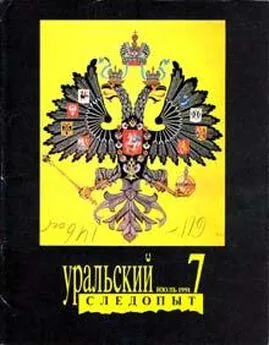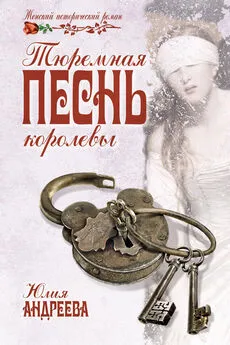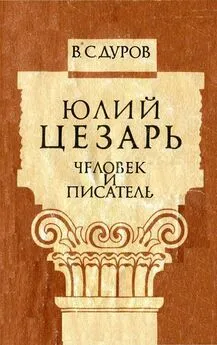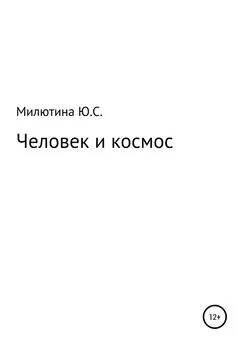Юлия Красовская - Человек и песня
- Название:Человек и песня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1989
- Город:М
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Красовская - Человек и песня краткое содержание
Самодеятельные фольклорные коллективы (детские, молодежные, взрослые) найдут в книге колыбельные, детские, игровые, протяжные лирические песни, исторические, хороводные, былину... Такие шедевры терского песенного искусства, как хороводная-игровая «Во лузях» и многоголосное эпическое полотно «Москва» («Город чудный, город древний»), в течение уже многих лет украшают репертуар известного самодеятельного ансамбля «Россияночка» ДК АЗЛК и теперь могут приумножить славу любого профессионального хора.
Автор освещает многие стороны крестьянской жизни, специфики народного творчества, подходит к собиранию и изучению фольклора как к комплексной проблеме народоведения.
Человек и песня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Спустя двадцать пять лет после начала этой экспедиции (которая длится и по сей день) не могу я, к сожалению, вспомнить лица, имена и фамилии этих наших веселых помощников-доброхотов. В то время встреча с ними показалась мне, вчерашней студентке, менее значительной, чем встреча с народными мастерами слова и песни. Поэтому сведения о наших случайных помощниках мною не записаны. Сегодня же, понимая свою ошибку, приношу им, хотя и поздно, свои извинения и глубочайшую благодарность за помощь...
И вот на четвертый день едем в деревню Кузреку [22] Кузрека — вероятно, от финно-угорского куз, означающее ель, слилось с русским словом река, то есть Еловая река, река среди елей.
.
Едем с оказией, любезно устроенной для нас работниками Терского райкома партии. Оказия — это гнедая лошадь, запряженная в сани-розвальни с веселым возчиком (имени его тоже не упомню). Нам тепло: мы напялили какие-то шерстяные шали, теплые тулупы, ноги укрыли мохнатыми шкурами. Это — тоже одно из явственных проявлений заботы... Как нечто невероятное, «недочеловеческое» вспоминается нам, как всемогущий «владыко» хозяйственной части Карельского филиала Академии наук СССР всего неделю тому назад на письменные и устные мольбы об «утеплении» нашей зимней заполярной экспедиции ответил уныло, с брезгливым выражением на скучном лице, закрывая перед нами дверь в хранилище с меховой одеждой и тыча пальцем в параграф какого-то отпечатанного в толстой книге устава: «У геологов, работников института леса и биологов — экспедиции. Им полагается утепление. У филологов и фольклористов — не экспедиции, а ко-ман-ди-ров-ки. Им утепление, а также полевое довольствие не полагаются». — «Так ведь на деле-то мы будем работать в условиях именно экспедиционных, полевых, в отличие от геологического стационара — с дальними переездами и переходами!» — «На деле! На деле! А мне нет дела до вашего дела. Видите?.. У геологов, лесников и биологов — экспедиции, у филологов и фольклористов — ко-ман-ди-ров-ки...» («Не может быть! Страсть какая! — сказали нам в Терском райкоме. — Нешто мог двух жоноцок на холодну смерть в дороге послать? Тиран какой!» — И мигом нас утеплили.)
ДЕРЕВНЯ КУЗРЕКА. КУДА УБЕЖАЛИ СКОМОРОХИ? ЧЕМУ УЧАТ БЫЛИНЫ?
Сейчас, спустя время, вспоминается Кузрека как пульсирующий многоголосый поток вод, сбегающий к морю по огромным камням и делящий деревню надвое; шум моря, тут же, рядом с деревней, сверкающие на солнце, пляшущие в брызгах крошечные радуги, веселое гудение яркого огня в русских печах, запах шанёжек [23] Шанёжка, шаньга — круглый плоский пирожок из недрожжевого теста с открытой начинкой на выбор: кашею, ягодами, вареньем, творогом.
, взрывы звонкого смеха, ребячьей воробьиной трескотни, предновогодние домашние заботы и быстрые шутливые перепалки-приговорки, упруго цокающие, словно несущиеся вприпрыжку
— Сказывают, а Стрельни ономенне [24] Ономение, ономедни, намедни — позавчера, на днях (древне-рус.).
байна [25] Байня — баня (диалект.).
сгорела.
— А! Полдела, що байна сгорела! Кабаки горят — и то ницё не говорят Или: «Говоришь ей про Тараса», а она: «Чертей полтораста». «Знашь, поговорим потом»... «Потом да потом, а отрубите топором!..»
И еще вспоминается высокий-высокий, чистый и ясный голос (как говорят на Терском берегу, «лебединым тонким голосом издосель-досельны [26] Издосель-досельны — очень давние, древние ( древне-рус.).
настоящи старухи умели петь») нашей хозяйки Офимьи Трофимовны Никифоровой — очень худой, высокой, недоверчиво улыбчивой, не слишком гостеприимной старой женщины с пронзительно светлыми глазами и золотистыми, кудрявящимися на висках волосами, стянутыми на затылке в тугой узел-косу. Она поет былину (или, как в народе говорят, «старину») [27] См приложение 3.
.
Пошел Митрей-князь да ко заутрени,
К воскресенськия, ко вознесенськия.
Тут бросаласе Домнушка по плець в окно,
Фалилеёвна-душа по поясу.
«Щой не етот ли, матушка, есть Митрей-князь,
Да не етот ли, сударушка, Васильёвиць?
Сказали про Митрея, што хорош-пригож,
Хорош-пригож, и краше в свете нет...
А он сутул, горбат да наперед покляп [28] Покляп — склоненный, согнувшийся.
.
Ище ноги кривы да вси глаза косы,
Ище речь-то его да всё корельская,
А кудёрышка да заонезькия».
Ище Митрий-князь да реци услыхал.
Ище ети-то реци да за беду ему стали,
За досадушку да за великую показалисе...
Воротилсе князь да от заутрени,
Приходил он ко сестры своей родимыя:
«Собери-ко стол да ведь почестен пир,
Созови-ко Домну Фалилеёвну,
Скажи про Митрия, що его дома нет,
Уж он в лес ушел да за охотою,
За лисицами, да за куницами,
За медведямы, да за оленямы»...
Ишше первы послы ко Домны на двор пришли:
«Отпусти-ко, Софьюшка Микулична!
Пожалуй-ко ты, Домна Фалилеёвна,
На поцестён пир, хлеба-соли ись [29] Ись — есть, кушать (древнерус.).
.
Хлеба-соли ись, да сладка меду пить.
Ище Митрия-князя его дома нет».
Щой первы послы да со двора сошли,
А вторы послы ко Софьи на двор пришли:
«Уж пожалуй-ко ты, Домна Фалилеёвна,
На поцестён пир да на девинной» [30] Девинной — девичий (древнерус.).
...
А третьи послы да со двора сошли,
Засряжаласе тут Домна Фалилеёвна
На поцестён пир да на девинной стол.
Унимала ей матушка родимая:
«Не ходи-ко ты, Домна Фалилеёвна!
Мне ночесь седни мало спалось,
Мне мало спалось — во снях много виделось.
Сокаталсе чуден крест у мня да со белой груди,
А злацён перстень да со правой руки».
Не послушала Домна Фалилеёвна,
Ай, пошла она да на поцестён пир,
На поцестён пир да на девинной стол...
Уж как Митрей-князь да во большом углу сидит..
Уж как он крест-от кладет да по-ученому,
А молитву творит по-благословленному.
«Проходи-ко ты, Домнушка Фалилеёвна,
Ко сутулому,— говорит,— да ко горбатому,
Ко глазам косым, да ко ногам кривым».
А взмолиласе Домна Фалилеёвна:
«Отпусти-ко ты меня, Митрей-князь, да домой сходить.
Я забыла крест да со белой груди,
Да злацён перстень да со правой руки».
Отправилась Домнушка да во цисто полё,
Во цисто полё, да как во кузенку:
«Уж вы, кузнецы, да добры молодцы,
Скуйте мне да три ножицка булатныи».
Как тут трои кузнецы да добры молодцы
Ей сковали три ножицка булатныи.
Вот ушла ведь тут да наша Домнушка,
Фалилеёвна да во цисто полё.
И поставила булатны ножицки
Щой тупым концём да во сыру землю,
А острым концём — себе во белу грудь.
«Не достаньсе, мое тело, тело белоё,
Ни сутулому, да ни горбатому,
Ни горбатому, да ни покляпому,
Ни ногам кривым, да ни глазам косым,
А достаньсе, тело, мать-сырой земли,
Щой сырой земли, да гробовой доски...»
Интервал:
Закладка: